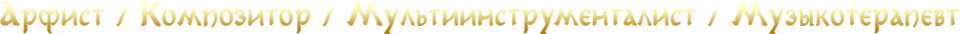Только, чур, перескажу я вам эту историю, как моей душе угодно. Так вот...
Рафтери был не только скрипачом — он был человеком. Первейшим человеком и лучшим скрипачом, какой когда-либо ступал по земле в кожаных башмаках.
Свет не знал сердца более щедрого, чем у него. О! в его скрипке слышались и завывание ветра, и дыхание моря, и шепот банши** под ивами, и жалоба бекаса на вересковой топи. В ней звучали одинокость болот и красота небес, свист черного дрозда и песня жаворонка, легкая поступь тысяч и тысяч фей, топот их маленьких ножек в ночной пляске до самой зари.
Его напев, подобно ветру средь камышей, то падал, то убегал, увлекая за собой слушателей, которые всегда окружали его. И самая черная душа светлела, гордость уступала кротости, а суровость таяла как снег в мае.
Со всех концов Ирландии стекались люди, чтобы послушать его. Каждая пядь земли между четырьмя морями ведала о его славе. Люди забывали голод и жажду, жару и холод, оказавшись во власти его музыки. Звуки его скрипки отдавались в каждом уголке человеческого сердца. И хотя он легко мог бы сделаться самым богатым в своем краю, лучшей его одеждой так и оставалась потрепанная куртка.
Деньги он презирал. Любовь! Только любовь — единственное, что он знал и чему поклонялся. Для него она была всем на свете. Только любовь — услада его сердца — могла вывести его из могилы и привести на свадьбу Динни Макдермота и Мэри.
И только любовь, одна лишь любовь, была их богатством — отважного Динни и красотки Мэри в ту ночь, когда они поженились. В четыре пустые стены вернулись они из церкви: холодная вода да ночной мрак за окном — вот и все.
Но что им было за дело до этого, раз поженились они по любви? Мэри отказала самому скряге Макгленахи из Хилхеда со всеми его коровами, пастбищами и рыбалками. А Динни смело отвернулся от Нэнси Мур из Мервах с ее ста фунтами, семью телятами и двумя сундуками с приданым из чистого льна, которое он получил бы, — помани только пальцем. Но он взял в жены Мэри.
И вот они оказались одни-одинешеньки в своей жалкой лачужке в свадебную ночь, вместо того чтоб пировать, как это обычно полагается. Одни-одинешеньки — да, да! Ведь все рассудительные люди просто возмутились, что оба упустили случай разбогатеть и поправить свои дела — случай, посланный самим небом,— эти телята и денежки Нэнси Мур, рыбалки, пастбища да еще двадцать коров того скряги в придачу.
А? Упустить такие прекрасные предложения, как будто это так, пустяки! И пожениться сломя голову, как дурачки какие-нибудь, не имея за душой ни полушки.
Но всем этим умникам было не понять — куда им! — что Динни и Мэри просто бежали от искушения поддаться всеобщему благоразумию и обвенчаться с золотом, — вот они и поженились по любви. Ну, и конечно, все почтенные люди отвернулись от них и оставили влюбленную парочку одну, в полном одиночестве, но зато полную любви друг к другу в эту первую ночь после их свадьбы. Но вот поднялась щеколда, и к ним в дом вошел сгорбленный старичок со скрипкой под уже почерневшей зеленой курткой. Он пожелал доброго вечера и присел на стул, который Динни придвинул для него поближе к огню.
— Ну и длинный путь я проделал, — сказал скрипач. — И голоден же я! Если б, добрые люди, вы дали мне чего-нибудь к ужину, я бы спасибо сказал вам.
— Ха! Ха! Ха! — рассмеялись оба дружно. — Ужинать? Так знайте, хотя мы только сегодня сыграли свадьбу, на ужин у нас ничего, кроме любви. Право же! Будь у нас хоть что-нибудь, чем можно было бы набить желудок, мы с радостью и от чистого сердца отдали бы большую долю вам или какому-нибудь другому гостю.
— Как? — воскликнул гость. — Вы поженились только по любви? И у вас нечего даже бросить в горшок?
— Конечно! — ответили оба. — Ха! Ха! Ха! И теперь мы за все это расплачиваемся.
— И это не такая уж дорогая цена, — говорит Мэри.
— Совсем недорогая! — говорит Динни.
— Да благословит вас господь! — промолвил скрипач, который все это время наблюдал за ними исподлобья. — Коли так, вы не останетесь внакладе. — И спрашивает: — Доводилось вам слышать историю про Рафтери?
— Рафтери? Еще бы! Или ты смеешься над нами? Только глухие или мертвые не слышали про великого Рафтери.
Тут старый скрипач кладет скрипку и смычок к себе на колени и говорит:
— А ну, пошлите-ка весточку соседям, чтобы приходили да приносили свадебные подарки. И не какие-нибудь, а самые лучшие, мол, на свадьбе будет играть сам Рафтери.
— Рафтери? — воскликнули оба, когда речь вернулась к ним.
— Ну да, Рафтери — это я, — говорит скрипач, снова беря свою скрипку.
Так и подпрыгнуло сердце у обоих от радости, и все мирские заботы рассеялись, как туман с гор.
Новость, подобно лесному пожару, облетела всю округу: сам Рафтери, великий Рафтери, о котором наслышано даже дитя в колыбели, но кого редким счастливцам удалось видеть, будет играть на свадьбе у Динни Макдермота! Все словно голову потеряли, побросали работу и, позабыв про жадность, похватали лучшие подарки для новобрачных и поспешили к их дому.
Барни Броган принес копченую свиную грудинку, а Джимми Макдой баранью ногу. Эамон Ог пришел, согнувшись в три погибели под тяжестью целого мешка картошки, а миссис Макколин, как гора,— полные руки постельного белья. С полотном, которое принесла Молли Макардл, могла соперничать лишь фланель Сорхт Руа. Но им не уступали и бочонок масла Пэдди, прозванного Привидением, да и овсяные лепешки Рой-син Хилфтери, которые могли пригодиться и впрок. Даже Баках Боог притащил свой подарочек: сахар и чай. К всеобщему изумлению, появился и знаменитый скряга Матта Мак-а-Нирн, еле волоча корзину с крякающими утками и гогочущими гусями. О, большущий сарай потребовался бы, чтобы схоронить все богатство, какое привалило в эту ночь Динни и Мэри,— целые груды добра и всякой всячины, эти их свадебные подарки. И Рафтери простым кивком головы благодарил за них каждого мужчину и каждую женщину. А они думали про себя: будь они хоть трижды богаты, все равно оставаться им в неоплатном долгу перед Рафтери. Они боялись даже громко чавкать на этом свадебном пиру, — а пир получился и впрямь на славу, лучший пир во всей округе, так уж все тогда и решили, — чтоб не пропустить хоть словечко или шутку, которые Рафтери то и дело отпускал со своего почетного места за столом. Его шуточки кололи и жалили, и уязвляли, и все же они заставляли смеяться даже тех, кому он прямо-таки наступал на любимую мозоль.
Ну и гордилась наша парочка, Динни и Мэри, своим свадебным ужином, самым лучшим, самым богатым, самым веселым-развеселым, какие только видели зеленые горы Ирландии! Да им и было чем гордиться. Больше того, каждый ребенок тех гостей, которые побывали у них в ту ночь, рассказывал детям своих детей, кто украшал почетное место за столом на свадьбе у Динни Макдермота в ту ночь. А когда пиршество закончилось и все прибрали, Рафтери поставил свой стул прямо на стол, в углу, сел, вскинул на плечо скрипку и провел по ней смычком. Все, кто были там, затаили дыхание: им послышалось в скрипке завывание ветра, и дыхание моря, шепот банши под ивами, и жалоба бекаса на вересковой топи. Красота небес и одинокость болот звучали в ней, и свист черного дрозда, и песня жаворонка, и легкая поступь тысяч и тысяч фей, топот их маленьких ножек в ночной пляске до самой зари.
Подобно ветру средь камышей, его напев то падал, то убегал, увлекая за собой затаивших дыхание слушателей.
И самая черная душа светлела, гордость уступала кротости, а суровость таяла как снег в мае. И не было никого среди них, кто, хоть раз услышав его музыку и подпав под ее сладостные чары, не пожелал бы навсегда остаться в их власти.
Но вот настала минута платить скрипачу за услуги, и тут Рафтери взял свою шапку и прошелся с нею по кругу, — ни один скрипач не делал этого прежде.
И что же, кто, покоренный его игрой, поклялся себе дать шестипенсовик, подавал шиллинг, а кто решился дать шиллинг, расщедрился на целую крону. И когда Рафтери обошел всех в доме, шапка оказалась полным-полнехонька, даже с верхом.
А после все до одного, — конечно, то еще действовали волшебные чары музыки, — трясли Динни руку, целовали Мэри в губки, просили господа бога благословить их брак и убирались восвояси. А за ними и Рафтери сунул свою скрипку под старую, уже почерневшую зеленую куртку, пожал руку оторопевшему Динни, расцеловал Мэри и, поручив богу беречь их счастье, двинулся в путь. Оба лишь рты разинули, вытаращили глаза и не могли вымолвить ни словечка.
И только шапка старика, доверху набитая серебром, которая так и осталась на столе, вернула Мэри дар речи.
— Он забыл свою шапку с деньгами! — закричала она.
— Погоди, я сейчас его окликну! — сказал Динни, бросаясь к дверям.
Но не успел он там очутиться, как дверь раскрылась, и в дом вошел Пэт-коробейник со словами:
— Бог в помощь!
— Бросай свой мешок, Пэт,— кричит ему Динни,— скорей верни этого старика со скрипкой, которого ты только что встретил!
— Какого черта еще? — спрашивает Пэт.
— Да Рафтери! Рафтери! Ты сейчас встретил самого великого Рафтери! Он играл на нашей свадьбе и забыл свою шапку с деньгами. Беги за ним!
— Рафтери, — повторяет Пэт. — Ты что, спятил? Да его, Рафтери, могилу я помогал закапывать еще три недели назад, в графстве Голуэйском. Бедный скиталец!
— Да, Рафтери... — повторяет он про себя, печально качая головой, пока Динни и Мэри как громом пораженные застыли посреди комнаты. — Рафтери, нищий богач, который мог бы умереть богачом, а ушел на тот свет с тремя полупенсовиками в кармане, без целой рубахи на плечах. Рафтери! Тьфу, пропасть!
Что и говорить, Рафтери был не только скрипачом, — он был человеком, лучшим из лучших! Человеком и скрипачом. Никто, равный ему, не ступал еще по земле в кожаных башмаках, не было еще на свете сердца более щедрого, чем у него.
О! в его скрипке слышались завывание ветра, и дыхание моря, и шепот банши под ивами, и жалоба бекаса на вересковой топи. В ней звучали одинокость болот, и красота небес, и песня жаворонка, и легкая поступь тысяч и тысяч фей, топот их маленьких ножек в ночной пляске до самой зари.
Подобно ветру средь камышей, его напев то падал, то убегал, увлекая за собой слушателей.
И самая черная душа светлела, гордость сникала, а самое жесткое сердце становилось мягким, как воск.
Со всех концов Ирландии стекались люди, чтобы услышать его скрипку,— слава его облетела каждую пядь земли между четырьмя морями. Люди забывали голод и жажду, жару и холод, пока звучала его чарующая музыка. В каждом уголке человеческого сердца отдавались звуки его скрипки. И хотя он легко мог бы сделаться самым богатым в своем краю, лучшей его одеждой так и оставалась потрепанная куртка.
Деньги он презирал. Только любовь. Любовь — единственное, что он знал и чему поклонялся. Для него она была всем на свете. Музыка, Красота и Любовь — вот его богатство, которое он оставил, уходя в могилу. Да, с тремя полупенсовиками в кармане, в драной рубашке на плечах, он умер богачом, наш Рафтери...
В старину говорили:
Восхвалять бога достойно, но мудрый не станет клясть и дьявола.
* Шанахи — бродячий сказитель и музыкант в Ирландии.
** Банши — так называют в Ирландии духов, которые предвещают смерть.
А надсмотрщик подгоняет: пошевеливайтесь, каждый стеклянный сосуд — вклад в сокровищницу фараона. Нынче же во дворце деспота праздник. Что такое праздник? Ремесленники могут об этом лишь догадываться. Их удел гнуть спину. Разве что в знак особой милости, если придется фараону по нраву изделие кого-нибудь из них, получит он день, свободный от труда. И тогда легкие отдохнут, вбирая жадно и про запас теплый и влажный, но чистый воздух, текущий с долины полноводного Нила. А пока — пошевеливайся!
Воздух наливается зноем. Вокруг тишина. Но внезапно, как струйка воды, вливается в жаркую тишину чей-то голос. По дороге мимо поселка ремесленников идет человек и поет. Через плечо на ремешке у него висит арфа, и певец легко касается струн тонкими пальцами. Этот прохожий — не вельможа, потому что одет просто. Он не ремесленник, потому что не трудится в самую трудовую пору дня, и руки у него мягкие и тонкие. У него прекрасная арфа, но он не придворный арфист, если расхаживает и поет, где ему вздумается.
Может, он жрец из храма? Те тоже играют на арфах, когда обращаются к богам... Нет, не похоже. Жрецы играют на огромных и громкогласных арфах. А у этого арфа маленькая, да и песня не такая сумрачная, как в храме. Кто же он? Во всяком случае не раб, если свободно разгуливает и поет.
А арфист пел свою песню:
Велика власть фараона,
Но не повернуть ему Нил вспять.
Велик и полноводен Нил,
Но не залить ему всю нашу страну.
Велика наша страна,
Но вся земля еще больше.
Велика земля,
Но и она лишь остров в океане.
Велик океан,
Но если небо захочет пить,
Весь океан не утолит его жажду.
Бесконечно небо,
Но и оно умещается в моей песне.
Ремесленники оставили работу и слушают песню. Арфист кончил петь, и послышался голос одного из стеклодувов:
— Хорошо поешь. Хорошо. Но для кого ты пел свою песню?
— Для вас, — удивленно отвечает арфист. — Для кого же еще?
— Для нас? — удивляются в свою очередь ремесленники.
— А почему бы и нет. Разве мое ремесло не достойно вашего?
— Что ты, напротив! — протестуют ремесленники. — Но мы чаще слышим крик осла и блеяние коз. Вот и вся наша музыка. А твой прекрасный инструмент не предназначен для столь грубых ушей.
— Но кто-то из вас ведь сказал, что я пою хорошо, — улыбается арфист. — Значит, не так уж грубы ваши уши. А если и грубы, то моя музыка как раз для таких ушей.
И он снова начинает петь. Боясь пошевельнуться, мастера слушают его.
Вдруг чья-то тень ложится на струны арфы. Арфист поднимает голову. Перед ним стоит надсмотрщик.
— Вот как, — ровным голосом говорит он. — Для вас праздник уже начался. А когда придут за посудой для владыки, вы вручите посланнику не стекло, а песни?
Рабочие поспешно принимаются за дело.
— Добрый человек, — обращается арфист к надсмотрщику, — позволь, я буду петь для них, пока они трудятся. Согласись, что так работа пойдет веселей.
Надсмотрщик бросает на арфиста подозрительный взгляд. Но арфист простодушно улыбается, пальцы его беззвучно скользят по струнам арфы, словно нащупывая будущую мелодию. Надсмотрщику и самому скучно, он готов разрешить музыканту остаться, но кто его знает, что он еще напоет там в своих песнях. И, подумав, надсмотрщик говорит:
— Играй, но только не пой.
И, довольный собой, улыбается. Ловкую штуку он придумал, сейчас все увидят, чего стоит этот выскочка. Петь песню, кое-как подыгрывая на арфе, могут многие. Даже если певец неумело бренчит, это не так заметно. Все вслушиваются в слова и в мелодию песни. А вот попробуй-ка остаться один на один с инструментом.
Но арфист нисколько не смутился. Он склонился над арфой и тщательно проверяет струны, подтягивает их, внимательно прислушиваясь. Надсмотрщик насмешливо смотрит на него, даже рабочие чуть приостановились: что-то сейчас будет.
Но вот музыкант сел поудобней, положил на струны руки и заиграл. Для начала он извлек из своего инструмента несколько удивительных созвучий. Можно было подумать, что играет добрый десяток арфистов, такие это были сочные и яркие аккорды. И звуки эти словно загипнотизировали слушателей. Теперь уж они не могли оставаться равнодушными.
А арфист снова бросил пальцы на струны, и каскад звуков обрушился на присутствующих.
Ах, хитрец! Ты сказал, что обойдешься без слов. Но твоя музыка г о в о р и т! Про что это она? Про то, как восходит и подымается над миром сияющее лицо бога солнца и медленно плывет он в своей невидимой ладье по широкой голубой дороге Нила... А это что за жалобные звуки? Это песня рабов:
Молотите для себя,
Молотите вы, волы!
Для себя солому бейте
И зерно для господина!
Отдыха не знайте...
Откуда выплыли эти слова? Ведь арфист даже рта не раскрыл. А музыка рассказывает дальше. Вот длинные лучи-пальцы бога солнца потянулись вниз, ощупали спины рабов, обожгли их своим прикосновением:
Отдыха не знайте...
Все медленней, все тяжелее движения рабов. Вот один из них упал, вот упал другой... Хлесткий удар, вскрикнули струны. Не удар ли это бича —
Отдыха не знайте...
— Стой! — кричит надсмотрщик. — Играй другое! Повеселей. А если не можешь, убирайся!
Арфист поднялся было, но глянул на согнутые спины стеклодувов и снова сел, на секунду задумался и опять заиграл.
Вот это другое дело!
Теперь, действительно, работа пойдет веселей. "Моя плеть, — размышляет надсмотрщик, прислушиваясь к ритмичным звукам мелодии, — никогда не смогла бы заставить этих людей работать так дружно и с такой охотой".
Играет арфист, идет работа...
Вдалеке на дороге возникает облачко пыли, оно быстро приближается, и вот уже слышится цокание копыт и шум подъезжающей колесницы. "На колени! — восклицает надсмотрщик и сам сгибается в поклоне, сердито крикнув арфисту, — прекрати!" Колесница останавливается, из нее выпрыгивает человек в богатых одеждах. Окружающие не смеют поднять головы, и лишь арфист с любопытством рассматривает важного чиновника, прибывшего от фараона, чтобы отобрать посуду для празднества. Не говоря ни слова, он начинает осмотр. В руках у него тяжелая трость из черного дерева и слоновой кости. Легкое прикосновение к сосуду — значит, годится; удар, после которого стеклянное изделие разлетается вдребезги, — ясно без слов, не годится. Сердито прищурившись, наблюдает за чиновником арфист. Затем кладет пальцы на струны и начинает тихонько наигрывать и напевать:
Неразумный злой топор
Рубит дерево под корень.
Жало острое стрелы,
Грудь пронзает человеку.
Молний огненные копья
Могут сжечь посевы наши.
Вместо срубленных деревьев
Могут вырасти другие.
На пути стрелы летящей
Можно крепкий щит поставить.
После молнии палящей
Ливень гнев богов смягчает.
Но когда глупец с дубинкой
Приступает смело к делу,
Десять умных не исправят,
Не исправят даже боги
То, что человек неумный
Натворит, махая палкой.
— Ты прав, — цедит сквозь зубы чиновник. — Если я взмахну палкой, даже боги тебе не помогут.
И крепко сжав трость в руке, он направляется к арфисту. Арфист вскакивает и быстро перекидывает арфу за спину.
— Ага, — ухмыляется чиновник, — за свою арфу ты больше боишься, чем за свою голову.
Он задумывается на несколько секунд и внезапно спокойно опускает палку.
— Поедешь со мной, — кратко говорит он арфисту. — Может, солнцеликий владыка пожелает услышать твою игру.
— Я привык сам выбирать себе спутников, — возражает музыкант.
Но вельможа даже не взглянул на него. Он делает знак воинам, сопровождающим его, и те окружают арфиста. Певец с надеждой смотрит на ремесленников, но те втянули головы в плечи...
И вот певец уже во дворце. Слуга фараона пал ниц перед своим господином и рассказывает о неслыханной дерзости певца, отказавшегося идти к владыке. Фараон велит позвать музыканта, и арфиста вводят в покои фараона. Но владыка не удостаивает его чести лицезреть свою божественную особу. Он сидит в золотом кресле, а певца усадили за высокой ширмой. Вот фараон опускает тяжелые веки, и вельможа устремляется к певцу.
— Играй! — велит он.
Арфист нехотя тронул струны. И, как струйка чистейшей влаги, цену которой знает любой житель жаркого Египта, полилась чарующая музыка.
Фараон поднимает брови. Он удивлен и недоволен. Этот бродячий музыкант играет лучше придворных арфистов.
Вельможа, уловив взгляд повелителя, жестом останавливает арфиста. А фараон делает новый знак.
— Пой! — велит певцу вельможа.
Злой огонек мелькнул в глазах бродячего музыканта. На несколько секунд он задумывается и начинает петь.
Выше всех фараон — повелитель мира.
Он один на золотом троне.
Трон держат мудрые жрецы
И величественные вельможи.
На плечах ремесленников и хлебопашцев
Стоят они, чтобы праха земли
Не касаться своими стопами.
А ремесленники и хлебопашцы
И другие свободные люди
Хвалу воздают владыке
За то, что стоят на земле,
А не ползают, как рабы.
Государство твое, о владыка,
Уподоблю я пирамиде огромной,
Ты, солнцеликий, — вершина ее,
Рабы — подножье...
Фараон скупо, но самодовольно улыбнулся. Этого певца, пожалуй, можно будет оставить при дворе. Но тут певец неожиданно заключает свою песню:
Крепко стоит пирамида.
Но переверни ее с ног на голову,
И ты увидишь, долго ли она простоит.
Фараон в ярости вскакивает, однако тут же заставляет себя сесть. Нельзя жаловать своим гневом ничтожного бродягу.
— Хорошо, — тихо говорит он после паузы. — Твои глаза хорошо видят мир. Но он не нравится твоим глазам. Остается либо уничтожить этот мир, либо уничтожить твои глаза. Пусть мои слуги решат, что легче.
И он небрежно махнул рукой.
Арфиста схватили. Один из слуг фараона поднял было арфу, чтобы одним ударом разбить ее. Но владыка жестом остановил слугу.
— Про арфу я ничего не говорил.
И музыканта увели.
...По дороге мимо поселения ремесленников идет человек с арфой через плечо. Идет осторожно, словно ощупывая дорогу. Один из стеклодувов подымает голову и всматривается в идущего. Да ведь это певец, тот самый. Но что с ним?
— Милость владыки, — улыбаясь печально, объясняет слепой арфист. Ремесленники усаживают его, дают напиться. Он кладет руки на струны, и звучит грустная песня.
Пусть он останется с нами, решают ремесленники. Надсмотрщик молчит. И арфист остается в поселке стеклодувов.
Проходит месяц, проходит другой...
Играет слепой арфист, идет работа в поселке ремесленников.
И вот, как это было уже однажды, вдалеке на дороге возникает облачко пыли. И снова слышится цокание копыт и лязг приближающейся колесницы.
— На колени! — кричит надсмотрщик.
Выпрыгнувший из колесницы вельможа, не глядя ни на кого, направляется прямо к арфисту.
— Ты поедешь со мной, — ласково улыбаясь, говорит он. — Так хочет владыка.
— Я узнаю твой голос, — отвечает слепой. — Что нужно от меня владыке? Песни мои ему не по нраву. Глаз у меня уже нет. Или владыка решил переделать мир, а глаза мои вернуть мне?
— Если будешь много болтать, — перестает улыбаться вельможа, — останешься и без языка. Собирайся и следуй за мной. И арфиста снова везут к фараону. Арфу его бережно поддерживают два воина. "Что это значит? — размышляет слепой. — Какими еще милостями хочет одарить меня владыка?"
Нет, не на праздник везут музыканта. Нет веселья во дворце фараона. Видно, прогневались боги на владыку, отнимают у него сына. Тяжело больной лежит наследник фараона, и не могут ему помочь ни жрецы, ни лекари. Все хуже и хуже сыну фараона. Один из лекарей сказал, что иногда врачевать помогает музыка. Однако не всякая. Да, не всякая. В этом владыка убедился. Ни огромные арфы из храма, ни сверкающие золотом арфы в руках придворных музыкантов не пролили живительный звук, не исцелили больного. И тогда вспомнил фараон о слепом музыканте.
Вот стоит он перед владыкой лицо к лицу. Нет между ними стенки из шелка, не боится теперь солнцеликий фараон показать лицо свое ничтожному бродяге.
— Ты будешь играть день и ночь, — говорит он слепому. — Ты можешь играть и петь все, что тебе вздумается. Но великий сын мой должен быть исцелен. Иначе...
— Я не боюсь твоего гнева, владыка, — перебивает его музыкант.
И все придворные втягивают головы в плечи. Он осмелился без разрешения ответить фараону, да еще перебил его.
Но владыка молчит.
— Ты сразу подумал о наказании, — продолжает музыкант. — Но велик лишь тот, кто может одарить достойно. Что дашь ты мне, рабу, который продлит жизнь на земле будущего владыки? Во что ты ценишь жизнь великого сына твоего?
— Чего ты хочешь для себя? — тихо спрашивает фараон.
— Для себя? — усмехается слепой. — У меня есть все для того, чтобы я остался музыкантом. Но если музыка излечит твоего сына, ты, владыка, велишь, чтобы по всей стране музыканты были свободными и почитаемыми.
— Так будет, — согласился фараон.
Идут дни за днями, и слепой арфист не отходит от постели больного.
Нежные звуки его арфы делают то, что не смогли сделать целебные травы и жертвоприношения в храмах. Они утоляют боль и возвращают силу, они успокаивают и бодрят.
И вот фараону приносят радостную весть о том, что сын его здоров.
Фараон призывает к себе слепого арфиста.
— Ты сделал то, чего не смогли сделать даже боги. Я выполню свое обещание. Всякий музыкант в моей бескрайней стране отныне будет свободен и почитаем. А ты останься здесь, чтобы звуками своей арфы радовать нас. Пусть божественная сила музыки всегда будет со мной.
— Нет, владыка, — ответил арфист. — Ты сам сказал, что отныне все музыканты получают свободу. Значит, и я свободен выбирать. Я покидаю твой дворец.
О, как трудно было всесильному владыке произнести эти слова! Но он произнес их медленно и тихо:
— Я прошу тебя, музыкант!
Арфист вскинул голову.
— Что я слышу! Ты п р о с и ш ь!
— Я прошу, — еще тише проговорил владыка.
И, словно размышляя вслух, певец сказал:
— Я бы мог остаться и быть твоим слугой. Но вместе со мной твоим слугой станет музыка. Возможно ли это, владыка? Я отвечаю тебе: нет! Музыка не может быть слугой, не может быть рабыней. Иначе она не музыка.
— Ты останешься! — крикнул фараон.
— О, ты желаешь быть господином даже над песнями, но не в состоянии быть господином собственному слову.
И владыка понял, что проиграл эту битву.
— Иди, — устало сказал он арфисту.
— Я прощаю тебя, великий владыка, — улыбнулся певец. — Хоть ты и ослепил меня, я добился того, что и твои глаза меня больше не увидят. Не увидят!
Певец немного помолчал и добавил:
— Впрочем, ты и раньше был слеп... Пусть меня выведут отсюда.
Фараон молча сделал знак, и, следуя за слугою, певец покинул покои властелина.
...По дороге, ведущей к поселению ремесленников, идет человек с арфой. Он идет уверенно, не ощупывая ногой дорогу, хотя его невидящий взгляд обращен куда-то вверх.
Стеклодувы-ремесленники вглядываются в приближающегося к ним человека.
— Да ведь это наш певец! — восклицает один из них.
— Ваш певец, — улыбаясь, подтверждает арфист.
Пятьдесят столетий пронеслись над огромными египетскими пирамидами. Диву даемся мы, рассматривая великие сокровища египетских царей. Время пощадило многое из того, что сделано руками замечательных мастеров.
Ну, а прекрасные звуки той самой легендарной арфы?
Они растаяли?
Исчезли навсегда?
Нет, не умирает искусство!
Сотни музыкантов подхватили песню арфиста, тысячи струн отозвались на пение его арфы. Арфа была любимым инструментом в Древнем Египте. И в том, что врачует музыка разные недуги, нет вымысла. Знали об этом и древние египтяне, и древние греки. Знают об этом и нынешние врачи.
Но главное — музыка исцеляет души людей, делает людей сильными и мудрыми.
Сегодня мастер решил испытать новую тетиву, обработанную особым способом. Много дней висела она на солнце и под дождем, на ветру и на морозе. Но когда мастер снял ее, жилка была по-прежнему упруга и свежа. Такая долго будет служить, пока сотрется и лопнет под стрелой. Мастер уже принялся натягивать тетиву, когда за пологом хижины раздались легкие шаги. Знакомая походка. Старик, предчувствуя встречу, улыбнулся.
Полог отлетел в сторону, солнечный луч на миг осветил хижину, но через мгновенье его заслонила тонкая фигурка. В хижину заглянул двенадцатилетний мальчик. Он подождал, пока глаза привыкнут к полутьме, а потом вошел.
Мальчик был сыном вождя. Он зашел, чтобы молча, как подобает мужчине, посидеть в доме друга и отдать должное его уважаемому труду. Почтительно поздоровавшись со стариком, он отошел и сел в сторонке.
Помолчали.
— Отцу твоему подарок делаю, — первым нарушил тишину мастер, кивнув на свою работу.
— Твоя работа всегда достойна лучших воинов, — взвешивая каждое слово, как взрослый, ответил мальчик. И добавил: — Мне еще рано ходить на охоту, но пустые забавы сверстников мне уже надоели.
Старик покачал головой.
— С воинами тебе еще рано, со сверстниками тебе скучно. С кем же ты хочешь быть? Ты ведь не зверь, чтобы жить в одиночку. Будь таким, как все. Лишь тогда ты сможешь стать вождем.
— Я не хочу быть вождем.
Мастер удивленно поднял голову.
— Ты не хочешь быть таким, как твой отец?
— Я хочу быть мастером, — твердо ответил мальчик.
Старик тихо засмеялся.
— Ты думаешь, это легче?
— Я хочу быть мастером, — упрямо повторил мальчик.
— Хотеть мало. Нужно уметь, — серьезно сказал старик.
Снова помолчали.
— Глаза мои многому научились в твоей хижине, — произнес мальчик. — Я хочу научить руки.
Старый мастер с уважением глянул на него.
— Хорошо, когда у воина есть хорошее оружие, — сказал он. — Но еще лучше, когда у воина хороший сын... Ты знаешь, где я храню заготовки. Возьми.
Мальчик вскочил, но, сдержав себя, степенно кивнул старику и отправился в небольшой чулан.
Когда он вышел оттуда, старый мастер глянул на его руки и удивился:
— Три? Ты взял три тетивы?
— Это мало?
— Это много. Настоящий воин не имеет права ошибаться на охоте. Настоящий мастер не имеет права ошибаться во время работы.
— Я возьму три тетивы и не сделаю ни одной ошибки, — пообещал мальчик.
Он пришел через несколько дней и протянул мастеру свою работу. Это был странный лук. На древко были натянуты три тетивы. Старый мастер удивленно спросил:
— Ты хочешь, чтобы из твоего оружия можно было поразить сразу несколько целей?
— Да, — ответил мальчик, — я хочу поразить сразу многих. Но этот лук не требует стрел. Я сделал так не для того, чтобы убить. Он провел пальцами по тетивам. Они мягко запели. И голоса их слились, как сливаются голоса охотников во время их вечерней песни.
— Красиво, — сказал мастер. — Тридцать лет я трудился. Ты трудился несколько дней. Я делал свою работу руками. Ты свою сделал еще и сердцем. Она хороша. Но для чего она?
— А для чего поет птица? — горячо отозвался мальчик. Ему было обидно, что старый мастер не понял его...
Дважды тонкий месяц, походивший на древко лука, наливался светом и дважды после этого таял. А когда он третий раз пошел в рост, на далеком холме зажглись три костра. Это был недобрый знак. Воины чужого племени предлагали одноплеменникам мальчика и старика уйти с насиженных мест. Ну что ж, это было не в первый раз.
В хижине мастера стало тесно, а после ухода воинов — просторнее, чем было. Не осталось ни одной стрелы, ни одного копья.
Когда костры угасли и угасли звезды, воины сошлись. От каждого племени отделилось по одному человеку. Нет, они не встали друг против друга. Они встали рядом и натянули луки. Выстрелил первый — и его стрела проткнула кожу барабанчика, который служил мишенью. Спустил тетиву второй — и глухо лопнула кожа такого же барабанчика, висевшего рядом. Тогда от племени были выставлены еще два воина. Первый метнул копье, и наконечник его целиком погрузился в твердый ствол дерева, что стояло в пятидесяти шагах. Метнул копье второй, и его бросок оказался столь же сильным. Два борца вышли навстречу друг другу и сплелись могучими руками. Долго стояли они неподвижно, дрожа от усилий. А потом упали оба, одновременно коснувшись земли.
— Они во всем равны, — сказал вождь пришельцев. — Эти шестеро не смогли решить нашу судьбу. Пусть будет бой.
— Будет бой, — хором подтвердили воины.
И тогда вперед вышел мальчик. Никто не заметил, как и когда он оказался среди взрослых.
— Не во всем равны воины наших племен, — звонким голосом сказал он.
Вождь пришельцев нахмурился.
— Дети — не воины, чтобы участвовать в сражении. А воины — не дети, чтобы слушать речи слабых.
— Сын, — сказал отец мальчика, — в руках твоих игрушка, а мы уже выросли. Иди. Тебя ждут сверстники.
— Хорошо, отец, — отозвался мальчик. — Ты сам учил уважать противника. И я хочу подарить вождю пришельцев свой лук. Я — сын вождя. Он должен принять мой подарок.
— А что мне делать с этим луком без стрел? — насмешливо спросил вождь чужого племени.
— Если умеешь, вот это, — воскликнул мальчик и тихо тронул струны.
Сразу наступила тишина. А мальчик согнул древко, затем разогнул, и струны словно вздохнули. Резко разогнул и снова согнул — струны вскрикнули.
Воины обеих сторон молчали. Мальчик стал перебирать струны, сгибая и разгибая лук.
Ни земля, ни небо, ни лес, ни горы до сих пор не слышали таких звуков. Так не пела ни одна птица, так не пел ни один человек. Это была песня, хотя в ней не было слов. И без слов было ясно, о чем она:
"Как прекрасна земля! Как прекрасно небо, — пели струны. — Как прекрасен человек! Нужно петь и слушать пение, а не свист стрел..." Вот о чем была эта песня.
Мальчик закончил играть, и вождь пришельцев протянул руку к необыкновенному луку.
— Дай мне, — попросил он.
Когда лук оказался в его руках, он согнул его, как мальчик, но струны почему-то лишь жалобно зазвенели, а не запели. Еще раз согнул — и снова неудача.
Вождь нахмурился.
— Ты колдун, — угрюмо сказал он.
— Нет, — гордо ответил мальчик. — Я мастер. Ты знаешь, как надо бросить копье, чтобы оно пронзило врага, ты знаешь, как нужно натянуть тетиву, чтобы стрела догнала зверя. А я знаю, как заставить мое оружие петь. Смотри!
Он взял поющий лук и прислонил его к тому самому сухому дереву, в котором торчали два копья. И струны снова запели.. Ствол дерева отозвался на их голос.
— У тебя острый глаз, — сказал мальчик. — Так почему же ты не заметил, что я и в первый раз прислонил мой лук к дереву? Вождь пришельцев покачал головой.
— Тут нужен не только острый глаз, — сказал он, — но и острый ум. Ты прав, мальчик, не во всем равны наши племена. Я принимаю твой подарок и принимаю твой вызов, хотя ты не воин. Я приду к вам со своей песней, и мы снова встретимся лицом к лицу.
Он опустил копье наконечником вниз и протянул его мальчику.
— Возьми мое оружие. Твое оказалось сильнее.
И все воины враждебного племени опустили копья наконечниками вниз.
— Твое племя победило, — сказал вождь пришельцев отцу мальчика.
И по знаку своего вождя воины пришельцев повернулись и пошли в сторону холма, на котором еще ночью горели три костра — знак войны.
Много лет прошло с тех пор. Давно уже сломались те копья, давно порастерялись те стрелы, которыми угрожали друг другу воины двух враждующих племен. Но по сей день поют тетивы, натянутые на изогнутое древко. Превратились они в певучие струны арфы. И когда поют они, слышится в их пении отзвук старой легенды о мальчике, который умел видеть прекрасное там, где не умели его разглядеть другие. А еще поют они о том, что прекрасное искусство могущественней, чем любое оружие, и бессмертно в веках.
Рис поставил перед ними на стол все, что у него было; он был расстроен, что не мог предложить гостям никакого свежего угощения, поскольку его жены не было дома. Путники поблагодарили хозяина и предложили высказать какую-либо просьбу, которую они могли бы выполнить в качестве благодарности за гостеприимство. Вначале Рис вежливо отказывался, но затем осторожно обратился с просьбой, к которой до сих пор все относились с непониманием и поднимали его на смех — ему хотелось получить арфу. И вот в мгновение ока арфа возникла перед ним, и не успел он поблагодарить путников, как они уже исчезли. Рис мог играть на этой арфе чудесные мелодии, какими бы неумелыми ни были его руки.
Люди не могли устоять на месте и пускались в пляс под музыку. Танцевали все — его жена, возвратившаяся домой, ее попутчики, их друзья, а также деревенские жители и гости, приходившие отовсюду.
Однажды в дом зашел и один из врагов хозяина, чтобы оскорбить его. И тут Рис начал играть на арфе, он играл и играл без остановки, он не знал пощады и перестал играть только тогда, когда его враг упал в полном изнеможении. Когда он ушел, Рис хотел еще раз сыграть на арфе, но она молчала. Сладкий голос возвестил, что волшебная музыка не должна служить для вражды.
Когда Рис после бессонной ночи снова хотел сыграть на своей арфе, ее уже не было...
Жил как-то ленивый человек, такой ленивый, что даже покрылся плесенью. Ждал, чтобы вишни сами ему лезли в рот, а потом чтобы кто-нибудь их разжевал. А когда нападает на человека лень, бедность ему на шею садится. Когда он дошел, что называется, до ручки, что надумал лентяй? Пойду-ка, решил он, к Доброй Волшебнице, пусть даст мне другую долю: чтобы я не работал больше, а были бы только праздники и один лишь рабочий день, и в тот день чтоб была свадьба.
Взял он котомку на палку и пошел искать счастья. Шел, шел и, проходя через лес, встретил волка — худого и лысого, хуже некуда. — Куда держишь путь, добрый человек? спрашивает волк.
— К Доброй Волшебнице за долей иду, пусть скажет, как мне счастливо жить на свете.
— Раз уж ты к Доброй волшебнице идешь, спроси ее, — взмолился волк, — как мне быть, что сделать, чтобы волосы у меня отросли, а то сроду на мне волос не было.
— Ладно, волк, я спрошу!
Пошел лентяй дальше, видит виноградный куст с увядшими желтыми листьями.
— Ты куда, добрый человек? — спрашивает виноградный куст человеческим голосом.
— К Доброй Волшебнице.
— А зачем?
— Просить другой доли, счастливой, чтобы мне не работать больше, чтобы жить, как бояре живут, не заботясь о завтрашнем дне. — Раз уж ты к Доброй Волшебнице идешь, спроси у нее, как мне быть, что делать, чтобы выросли у меня новые листья. — Спрошу, почему не опросить, — сказал лентяй и отправился дальше.
Приходит он к реке. И вот из воды выходит большущая рыба с огромным зобом. Сделала рыба путнику знак.
— Подайся поближе, добрый человек.
Подошел лентяй.
— Куда путь держишь?
— К Доброй Волшебнице.
— Зачем?
— За счастьем своим, узнать, как дальше мне жить.
— Если будешь у Доброй Волшебницы, спроси, как мне быть с моим зобом, а то он с каждым днем пухнет.
— Хорошо, спрошу.
Идет лентяй дальше и видит в лесной прогалине источник, а у источника красавицу девушку в белом платье, с венком из цветов на голове.
— Кто ты, добрый человек?
— Я бедный странник.
— А куда идешь?
— К Доброй Волшебнице.
— Долго ли шел, пока меня встретил?
— Долго.
— И кого ты в пути видел?
— Лысого волка видел, вот кого!
— И что тебе волк оказал?
— Когда он узнал, куда иду, попросил разузнать, как ему быть, что делать, чтобы волосы отрастить.
— Скажи ему, пусть он сожрет сердце бездельника и лентяя, и тогда у него волосы отрастут. И кого ты еще видел?
— Виноградный куст с увядшими листьями. Просил он меня узнать, как ему быть, что сделать, чтобы выросли новые листья и чтоб больше они не сохли.
— Передай ему, что у его корней закопали когда-то, давным-давно, кувшин с золотыми, и если найдется кто-нибудь, кто выкопает и уберет кувшин от его корней, то вырастут новые листья и куст покроется гроздьями. А еще кого видел?
— Рыбу большую с распухшим зобом. Просила меня узнать, как ей быть, что делать, чтоб избавиться от болезни.
— Зоб у нее набит драгоценными каменьями. Если найдется кто-нибудь, кто зоб разрежет и вытащит камни, полегчает ей.
— Я ей скажу.
— А теперь отправляйся обратно.
— Как это обратно? Я же сюда за счастьем пришел.
— Ступай обратно по тому же пути, по которому прибыл, и встретит тебя твое счастье в пути. Если есть у тебя голова на плечах, заживешь счастливо, а нет — пеняй на самого себя.
Пошел лентяй обратно. Идет, идет и пришел к рыбе. Опрашивает его рыба:
— Ну, что сказала тебе Волшебница?
— Сказала, что зоб твой набит драгоценными каменьями и что, если найдется кто-нибудь, кто зоб твой разрежет и вытащит эти камни, избавишься от беды.
Стала рыба его молить:
— Окажи, добрый человек, услугу, разрежь мне зоб, вытащи драгоценные камни и возьми себе их в награду.
— Нет, — отвечает лентяй, — я пойду, меня в пути счастье ждет, и всего у меня будет вдоволь и без тебя.
Как сказано: сильнее леность, чем бедность.
Пошел он дальше. Идет, идет, и вот уже виноградный куст веткой ему машет, чтобы остановился.
— Ну, как, человек добрый, побывал у Волшебницы?
— Побывал!
— И что она оказала?
— А вот что. У корней твоих закопан кувшин с золотыми, он мешает корням твоим разрастись, оттого ты и чахнешь.
— Если так, будь добр, выкопай кувшин с золотыми и возьми все себе. И мне услугу окажешь, и сам не будешь внакладе.
— Нет, — отвечает лентяй, — зачем мне землю рыть, уставать, лучше пойду, меня в пути счастье ожидает, и всего будет у меня вдоволь и без тебя.
Пошел он дальше. И вот уже встречается ему снова волк.
— Ну как, видел Волшебницу?
— Видел.
— И что она сказала? Как мне волосы отрастить?
— Сказала, что должен ты для этого сожрать сердце бездельника и лентяя.
— А еще что ты видел, что слышал? Где побывал?
— Многое видел. Видел увядший куст виноградный. У его корней кувшин с золотыми закопан, мешает ему расти. Просил он меня выкопать деньги и взять их себе, а мне они ни к чему. Все равно меня счастье в пути ожидает, и будет у меня всего вдоволь. — И еще кого видел?
— Видел большущую рыбину с раздутым зобом, полным драгоценных камней. Просила меня рыба разрезать ей зоб, выгнуть те камни и тем ее от беды избавить. Но я торопился и дальше пошел.
Подумал, подумал волк. Кого лень обуяла, решил он, ума у того мало.
— Ленивей тебя и глупей никого не знаю, — сказал он. — Не потрудился выкопать кувшин с золотыми, не стал резать рыбий зоб, чтобы вытащить драгоценности. А ведь мог с этим богатством до самой смерти жить-поживать, не зная забот.
Кинулся волк на лентяя и сожрал его без остатка.
С той поры говорят: кто ждет, чтоб вишни падали в рот, тот до добра не дойдет.
Карл был добрым парнем, и сердцем чист.
Карл был музыкант, Карл был кларнетист.
Вдохом воздуха, выдохом звука
Жил и шел с нараспашку душой.
Если в племени мало пламени,
Карл был из немногих, кто пламенный.
Он любил свое дело и делал, веря
В то, что от этого всем хорошо.
Карл любил Клару, а Клара — краля.
Глаза как алмазы, губки — кораллы.
Сама так естественна, так натуральна,
Что с нею мораль забываешь на нет.
Но не страдала моралью Клара,
Стерильной душою Карла играла.
И как-то под утро паскудная девка
Украла у Карла кларнет.
Сонный Карл спросонок глядел в свой лорнет,
Тщась отыскать то, чего уже нет.
Осознав значенье утраты Карл вскричал: "Караул
Но на нет суда нет.
И заплаканный Карл шастал в ватерклозет,
Не читал от несчастья вечерних газет,
Все курил и корил, сам с собой говорил,
И чуть было не оказался в crazy'е
Если душно душе, если тошно — то что ж,
На руках есть вены, под руками нож,
Но это выход на случай, если выхода нет,
А что выхода нет - это ложь.
Если небом дан дар, хватит сил и на то,
Чтоб и этот удар, и еще черт-те что
Пережить, и воду святую, которой ты полон,
Донести, тем кто жаждет, кто ею пустой.
Карл рискнул пойти на эксперимент,
Карл нашел в себе силы сменить инструмент.
Влез в долги и купил "Стратокастер" — гитару,
о которой, пожалуй,
мечтает любой.
Он терзал свои пальцы, душу и мозг
Дни и ночи, но он иначе не мог,
И в итоге родил звук, в котором он выместил
Всю свою боль и любовь.
Он трясину потряс,
Тем что грязь втоптал в грязь.
Он угрюмых смешил, а погрязшим мешал.
Взбаламутив тьму мути, он на свет Божий
Из-под ветоши вытащил свет.
Рок-н-ролльная каста расступилась пред ним,
И фанатики клялись, что видели нимб
Над его головой, но дело не в нимбе.
Он был просто несущим насущный ответ.
Сквозь сплетение сплетен, сквозь стены и тень,
День за днем, каждый день, за ступенью ступень,
Карл всходил на престол не ценой преступлений,
Не ради богатства, дарящего лень.
И хотя Карл вне сцены был скромен как кроль,
В кулуарах его прозвали "Король",
Что с того, сто он не коронован,
Коль король рок-н-ролла - коронная роль.
Но жил скрытный, корыстный проныра Кастрат,
Музыкант не удавшийся, он во сто крат
Заколачивал больше, чем мастера,
Чему был разумеется рад.
Он служил тем, кто лжив, он следил тут и там,
Он ходил по пятам, он сидел по кустам,
Он жил стуком ритмичным и сколотил
Состояние на костях.
"Стратокастера" звуков услышав раскат,
К Карлу завистью черной проникся Кастрат
И под старость Кастрату втемяшилась страсть:
Он решил "Стратокастер" украсть.
Но чужими руками он жар загребал,
От чего и ломились его погреба.
Он решил нанять бьющих и грабящих,
Тех у кого только брага да брань на губах.
И Кастрат недолго бродил по дну,
Чтоб найти подонков и сказать им: "Ну!"
В тот же вечер окрыленного Карла
Поджидала у дома урла.
Его долго пинали ногами в живот,
И если он чудом остался живой,
То виной тому Бог, Карл поверил в него.
Вот такие дела.
А Кастрат "Стратокастер" — то спер неспроста,
Он пытался мелодии стричь как с куста.
Думал, дело пустяк, но он локти кусал,
Ведь душа у Кастрата пуста.
Сбившись с сил и сбесившись, он струны сменил,
Но гитара просто трунила над ним.
И запал вдруг пропал, он запил и, вспылив,
Он решил "Стратокастер" спалить.
И когда "Стратокастер" несли на костер,
Карл на костылях тащился в костел,
Его приняли там, усадили за стол,
Предложили постель.
И, уставший от мира принял новый устав,
Что заставил его стать тем, кем он стал.
И теперь тонких струн звенящая сталь
Уже пальцы не жалит, а жаль.
Все на нуль одним махом — теперь он монах,
Он махнул на все и всех послал на х...
Он не ходит теперь в полинявших штанах,
Пребывая в священных стенах.
Вот только хор поет мессы а-ля до-ля-фа-соль,
Сыпля в Карловы раны карло-варскую соль.
Карл чувствует боль,
Вот вся сказка о том, как стал карликом бывший король.
А я был странник в израненной странной стране,
Где продажное "да" и на нет сводят "нет",
Где на тысячу спящих один, что распят
И пятьсот, что плетутся вдоль стен.
Если ты не эстет в ожиданье гонца,
Лей кастет из свинца и налей-ка винца,
И мы выпьем с тобою
За тех, кто прибит на кресте.