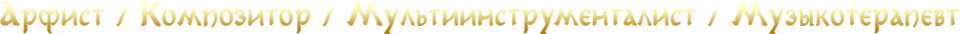Вена встретила Паганини голубым мартовским небом и шумом людных улиц. Маэстро впервые покинул родную Италию. Ему было уже за сорок. Всегда мечтал он о дальних путешествиях, и только сейчас мечта его сбылась. Слава великого скрипача намного опередила его приезд.
И вот он на берегах Дуная. О Вена! Столица музыки! Чем тебя удивишь! Тебя, видевшую и приютившую на многие годы таких великанов музыки, как Гайдн, Моцарт, Бетховен. Венские любители музыки избалованы, венские критики независимы в своих суждениях, венские газеты могут вознести на вершину славы или погубить равнодушием.
Впрочем, Паганини это не очень волновало. Он был прежде всего музыкантом. Музыка — превыше всего. И шумиха вокруг его имени мало заботила знаменитого маэстро.
А шумихи и впрямь было предостаточно. Расхаживая по улицам Вены, Паганини с любопытством рассматривал в витринах свои портреты, похожие и не очень похожие. Какой-то предприимчивый хозяин продуктовой лавочки умудрился даже сделать скульптурный портрет скрипача... из масла. Обложенный тающим льдом, бледно-желтый человек мрачно взирал сливочными глазами на толпящихся у витрины зевак. Паганини затесался в толпу и стал горячо обсуждать с одним из зрителей вопрос о сходстве масляного скрипача с настоящим. Зевака с большим чувством доказывал "незнакомому господину", что если бы в витрину рядом со скульптурой сунуть самого Паганини, то лишь по цвету можно будет определить, какой из выставленных на обозрение настоящий, — так велико сходство с оригиналом. При этом зевака ссылался на то, что, будучи в Италии, не раз встречался с великим маэстро и беседовал с ним запросто, "как вот с вами, уважаемый господин".
Пройдя немного дальше, Паганини увидел рисунок: в тюремной камере окруженный крысами играл изможденный скрипач. Весьма трогательная надпись свидетельствовала, что крысы (подумать только, какие музыкальные животные) прекрасно относились к "несчастному страдальцу Паганини" (как будто можно быть "счастливым страдальцем"). Маэстро знал об этой дурацкой легенде, согласно которой он кого-то за что-то ударил кинжалом и попал в заключение. В тюрьме от нечего делать он принялся усердно заниматься на скрипке и достиг небывалых вершин исполнительского искусства. "Бездельникам и зевакам, — подумал Паганини, — и в голову не приходит, что можно заниматься целыми днями у себя дома, а не в тюрьме".
Вернувшись в гостиницу, Паганини немного отдохнул и раскрыл футляр. Много скрипок было у великого скрипача, но всем им предпочитал он прекрасный инструмент работы кремонца Джузеппе Гварнери, земляка Антонио Страдивари. Эту скрипку подарил великому маэстро один любитель музыки после того, как Паганини играл на ней для жителей итальянского городка Ливорно. Случилось так, что скрипач оказался в этом городе без своих инструментов, и, страстно желая услышать игру Паганини, любители музыки упросили одного богатого меломана дать ему на вечер свою скрипку.
— Оставьте этот инструмент себе, — сказал после концерта владелец скрипки. — Я не посмею прикоснуться к инструменту, на котором играл такой мастер.
Паганини сел на краешек стула и очень тихо стал играть одну из своих пьес. Пальцы падали на струны, как дождик, легко и свободно. Одна из нот показалась музыканту фальшивой. Он остановился и несколько раз медленно и четко сыграл неудавшееся место. Когда все ноты стали звучать безукоризненно, Паганини отложил скрипку. "Божественный скрипач! Дьявольский скрипач! — с насмешкой бормотал он, расхаживая по комнате. — Знали бы добрые мои критики, чего мне это стоит. Уже сейчас мои жизнеописатели хотят знать, куда я исчез и чем занимался с девятнадцати до двадцати четырех лет. Пять лет добровольного затворничества. Скрипкой я занимался, господа, скрипкой! Пять лет каторжного труда понадобилось мне для того, чтобы открыть то, что вы ныне туманно именуете "секретом Паганини". С утра до ночи, с утра до ночи! А вы хотите все узнать в одну минуту".
Шорох за дверью прервал его размышления. Паганини быстро подошел к двери и распахнул ее. Человек, прильнувший к замочной скважине, даже не успел разогнуться.
— К вашим услугам, — сердито сказал Паганини. — Или вы предпочитаете, чтобы я тоже засвидетельствовал вам свое почтение через замочную скважину? Впрочем, если вам будет угодно, я согласен расценивать ваш столь низкий поклон, как дань незаслуженного уважения ко мне.
И он с иронической усмешкой отвесил нижайший поклон любопытному господину.
— Ах, маэстро! Простите, простите, простите, — скороговоркой выпалил человек. — Я ожидал услышать музыку. Я страстный любитель этого прекрасного искусства. Я ждал, ждал... В вашей комнате было тихо, и я решил...
— Что достаточно заглянуть в замочную скважину, как тотчас послышатся звуки скрипки? — перебил его Паганини. — У вас плохо со слухом, сударь, или, может, с деньгами?
— Не понимаю, маэстро.
— Если вы хотите рассматривать то, что нужно слушать, у вас, вероятно, плохо со слухом. А если вы не можете купить билет на мой концерт, то это говорит о том, что у вас туго с деньгами. Несмотря на то, что о моей скупости ходят легенды, я могу вам дать даровой билет или денег взаймы...
— Ах, нет-нет! Боже упаси! Я не затем пришел сюда, маэстро.
Тут бойкий господин стал сбивчиво и сумбурно объяснять, что вот уже много месяцев подряд он следует за Паганини, надеясь услышать его не только на эстраде во время концерта, но и тогда, когда маэстро упражняется. Да-да, именно во время занятий. Но маэстро, видимо, смазывает свой смычок мылом или маслом, чтобы он скользил по струнам беззвучно. А как же иначе объяснить, что ни разу из-за дверей комнаты Паганини не послышалось ни единого звука? А может быть, какая-то дьявольская сила помогает маэстро? Ибо где же это видано, чтобы скрипач, не занимаясь, мог так играть. Насчет дьявола это, конечно, шутка. Просто маэстро обладает каким-то секретом. Ведь помог же он дотоле неизвестному виолончелисту Гаэтано Чианделли стать первоклассным музыкантом. Говорят, Чианделли буквально переродился за какие-нибудь несколько дней.
— Послушайте, сударь, — прервал его Паганини. — Я действительно дал этому виолончелисту несколько уроков. Чианделли счел мои советы дельными, хотя он виолончелист, а я скрипач. Теперь Чианделли прекрасно владеет инструментом. Но этот музыкант и до встречи со мной усердно гнул спину не у замочных скважин, а над своим инструментом. И он, право, заслужил своим трудом мое участие. А вы, позвольте спросить, тоже трудолюбивый музыкант?
— Нет, я, видите ли, владелец ресторана. Но любовь моя к музыке столь велика, что я приехал за вами в Вену, дабы узнать секрет вашего искусства, секрет Паганини.
— Владелец ресторана? — изумился Паганини. — А зачем вам тогда секрет Паганини? Что вы будете делать с моим секретом? Подавать его как одно из лакомых блюд?
— Ну что вы, маэстро! Такие шутки... Вы меня обижаете! Прошу вас, выслушайте меня. Я знаю множество богатых и знатных синьоров, которые не блещут ничем, кроме своего богатства. Любой из этих знатных господ отдал бы значительную часть своего капитала за то, чтобы выделиться среди других. А музыка... Вы ведь знаете, что во всех знатных дворянских семьях наряду с обучением мужественному искусству фехтования обучают и прекрасным искусствам. И музыка тут на первом месте. Но вспомните-ка хоть одного из этих господ, чье искусство музицирования превзошло бы его знатность. А сколько кладется сил на занятия музыкой! Мучаются ученики, мучаются учителя. А вы, синьор, являетесь обладателем бесценного капитала и не знаете, как его использовать.
— Так-так, — оживился Паганини. — А вы знаете?
— Конечно! — вдохновенно продолжал господин. — Все очень просто. Вы раскрываете мне секрет, а я его продаю. Какие-нибудь три дня, и покупающий видит, что он не обманут, что скрипка в его руках звучит прекрасно.. Он отсчитывает нам солидную сумму и не забывает прибавить к ней лишку, дабы мы не раскрывали секрета лучшим его друзьям. Ведь каждый хочет быть единственным и исключительным. Мы обещаем. И немедленно отправляемся к его друзьям, чтобы на тех же условиях получить вознаграждение от них...
Господин увлекся. Чувствовалось, что он действительно безумно предан музыке. Паганини глянул на часы. До вечернего концерта, первого концерта в Вене, оставалось всего несколько часов. Нужно было отдохнуть и сосредоточиться.
— Хорошо, — сказал он, прервав предприимчивого господина. — Я открою вам секрет. Для того, чтобы стать хорошим скрипачом...
Господин весь подался вперед.
— Нужно десять раз в день мыть руки.
— И... это все?
— Ну конечно, — сдерживая смех, сказал Паганини. — Разве можно заниматься великим искусством, если у тебя грязные руки! Искусство любит чистоту, синьор ресторанщик.
Господин машинально поднес руки к глазам и внимательно посмотрел на них. Паганини не выдержал и рассмеялся. Господин густо покраснел и пулей вылетел из комнаты, бормоча на ходу не очень добрые слова в адрес Паганини.
"Ну вот, — подумал Паганини, — еще один злопыхатель появился".
Первые концерты в Вене прошли с огромным успехом. Темпераментные венцы не знали, как выразить свой восторг.
Появились перчатки "в стиле Паганини", прическа "в стиле Паганини". Выпекались булочки в виде скрипки, заядлые игроки на бильярде демонстрировали удар "в стиле Паганини", хотя Паганини клялся, что за всю жизнь ни разу не брал в руки бильярдный кий.
И в то же время не прекращались разговоры о "секрете Паганини". Любое движение, любой прием игры великого скрипача пытались толковать как возможный ключ к секрету.
В один из дней Паганини, отказавшись от всех приглашений и торжественных приемов, остался в гостинице. В этот утренний час маэстро стоял у окна, бездумно глядя на улицу. В ушах у него все еще звучали вчерашние овации, которые устроила ему восхищенная публика после исполнения им "Кампанеллы". Ее он играл в Вене впервые.
Паганини не смотрел во время игры в зал, но знал, что многие из присутствующих вытягивают шеи, чтобы получше рассмотреть, каким образом он добивается необыкновенных эффектов и удивительных звукосочетаний. Бесполезно! Многие из своих сочинений Паганини не печатал, потому что их все равно никто не смог бы исполнить. А если и печатал, то знатоки, поглядев в ноты, скептически усмехались, утверждая, что маэстро понаписал там такого, что и сам не исполнит. Дескать, Паганини специально так "зашифровывает" свои произведения, чтобы отпугнуть скрипачей...
По улице сновали экипажи. Вена жила своей обычной жизнью. Паганини хотел было отойти от окна, но внимание его привлек молодой человек со скрипичным футляром в руках. Пересекая площадь, он чуть было не угодил под коляску. Благополучно избежав катастрофы, молодой человек пересек площадь, остановился перед гостиницей и поднял голову, словно отыскивая взглядом нужное ему окно.
"Все ясно, — подумал Паганини, — еще один за секретом пожаловал. Ни днем, ни ночью, ни утром ранним нет покоя". И точно. Через несколько минут служитель гостиницы подал маэстро визитную карточку, на которой значилось "Йозеф Славик". "Где-то я слышал это имя..." — подумал Паганини.
— Просите, — вздохнув, сказал он.
Молодой человек сразу понравился Паганини. Выглядел Славик болезненно, но взгляд его не выражал той томной усталости, видимость которой с такой охотой напускают на себя молодые служители муз.
Славик смотрел на великого скрипача с восхищением и трепетом. Но поклонился очень сдержанно, достойно.
— Прошу прощения за столь ранний визит, маэстро. К сожалению, в другое время я вынужден работать.
— Вы со скрипкой, — заметил Паганини.
— Да, — кивнул Славик. — Меня привело к вам нескромное желание. Вчера вечером я с восторгом слушал вас. А сегодня хотел бы видеть вас в роли слушателя.
— Вы хотите поиграть для меня? — оживился Паганини. Он страшно боялся бесцеремонных посетителей, которые, едва познакомившись с маэстро, тотчас начинали уговаривать его взять скрипку в руки. Такие люди не понимают, что настоящий музыкант не умеет играть равнодушно или вполсилы. Пусть присутствует лишь один слушатель, настоящий художник обязан играть для него вдохновенно. А для этого... Да что говорить, когда после каждого концерта Паганини чувствует себя так, словно пробежал без передышки несколько верст. Потому Паганини обрадовался предложению Славика.
— Готов слушать ваше соло, — сказал он, улыбаясь.
— Маэстро, — серьезно сказал Славик, — я намерен сыграть не свое, а ваше соло.
— Не понимаю.
— Вы позволите?
Паганини кивнул, и Славик поднял скрипку. При первых же звуках Паганини едва удержал возглас изумления. Славик играл его "Кампанеллу". И как играл!
Вслушиваясь в прекрасное звучание скрипки молодого музыканта, Паганини задавал себе один за другим вопросы: откуда юноша знает ноты "Кампанеллы", когда успел ее выучить, где научился так блистательно владеть инструментом...
Когда Славик закончил играть, Паганини встал и развел руками.
— Блестяще! Поздравляю вас, мой друг. У вас в будущем больше, нежели у меня в прошлом **** Да-да, пройдет немного лет и ваша слава сравнится с моей. Тем более, что вскоре я намерен оставить эстраду и открыть школу, в которой буду обучать искусству скрипичной игры тех, кто не только талантлив, но и трудолюбив.
— О, я готов быть первым учеником в этой школе.
— Боюсь, что вас я уже ничему не смогу научить, — покачал головой Паганини. — Скажите, каким образом вы узнали ноты моей "Кампанеллы"?
— Я вчера слышал ее в вашем исполнении, — простодушно ответил Славик.
— Вчера?! Единожды?! Допустим... Допустим, что у вас потрясающая музыкальная память. Но запомнить ноты — это ведь еще не все. Вы выучили пьесу, притом безукоризненно. Когда? Вы простояли ночь со скрипкой в руках...
— Нет, — заметил Славик. — Большую часть ночи я лежал и... без скрипки. Но я в это время как раз и играл "Кампанеллу". А уж потом позанимался несколько часов со скрипкой в руках.
Напрасно искал Славик хотя бы оттенок удивления на лице Паганини. Маэстро удовлетворенно кивнул и сказал:
— Я же говорил, что вас я уже ничему не смогу научить. Могу смело утверждать, что один из самых главных "секретов" Паганини вы разгадали.
Если я верно вас понял, вы учили мою "Кампанеллу" мысленно, внутренним слухом представляя себе ее звучание и как бы чувствуя движения рук.
Славик кивнул.
— Мне приходится так заниматься, маэстро. Несмотря на молодой возраст, я уже достаточно потрудился для своей памяти, чтобы она теперь потрудилась для меня. И овладел я инструментом довольно рано. Однако состояние моего здоровья не позволяет мне в последнее время подолгу простаивать со скрипкой в руках. К тому же, — Славик усмехнулся, — у меня нет особняка, где я мог бы заниматься, не раздражая слух соседей своими упражнениями. И вот мне пришлось приучить себя к таким "немым" занятиям.
— Ну что ж, пусть невольно, но вы пришли к тому, к чему я шел всю жизнь, — отозвался Паганини. — Погодите, господин Славик, скоро и о вас будут говорить, что вашей рукой водит дьявол, ибо вы, не прикасаясь к скрипке, умеете разучивать сложнейшие произведения. Ах, эти люди, но понимающие нашего искусства. Они больше верят в чертовщину, нежели в человеческий разум. Больше верят в сверхъестественное, нежели в естественное. А ведь наш с вами секрет — это самое естественное, это сама природа. Человек — есть существо разумное. Как же можно отодвигать в наших занятиях разум на второе место! Сначала голова, а потом уж руки. Может ли поэт записать стихотворение раньше, чем сочинит его мысленно? Берется ли за кисть художник, не представив внутренним взором будущее полотно? Так почему же музыканты так часто хватаются за инструмент раньше, чем представят, что они сейчас будут с ним делать? Не потому ли руки у них опережают голову и делают бог весть какие несуразные движения. Поверите ли, почти каждому музыканту, который серьезно интересовался моим мастерством, я прямо или намеком говорил о таких занятиях "в голове". И что бы вы думали! Ни один из моих коллег не подумал воспользоваться моими советами. Они продолжают простаивать часами со скрипкой в руках. Но как простаивать! Бессмысленно, не вникая в то, что делают их руки. А один из музыкантов всерьез утверждает, что извлекает из своих занятий двойную пользу, так как в то время, когда его пальцы тренируются, голова его свободна, и он — вы только представьте себе! — читает увлекательные романы.
Славик рассмеялся.
— Я полагаю, что слушателям такого музыканта тоже имеет смысл захватить с собой на концерт роман.
— Меня называют гением, — продолжал между тем Паганини. — Но гений — это не только порыв и вдохновение, а еще и разум. Так вот, если, отбросив скромность, я признаю за собою право именоваться гением, то лишь за то, что возвел искусство игры на скрипке в науку. А вот этого-то мои почитатели как раз и не хотят замечать. Видят в моей игре и "божественное" начало, и "дьявольское" наваждение. А мой друг Россини, великий музыкант, поверил в человеческое. Вы знаете, он внезапно воспылал любовью к скрипке, и ваш покорный слуга в течение полугода давал ему, гениальному композитору, уроки. По истечении короткого срока Россини играл уже мои сочинения, которые не под силу сыграть многим известным скрипачам. А когда я пытаюсь сказать, что именно в голове кроется мой "секрет", газетные писаки выливают на мою бедную голову ушаты помоев. И обвиняют меня в том, что я злонамеренно ввожу в заблуждение честных музыкантов, дабы отвлечь их внимание от секрета подлинного.
— И все же у вас есть секрет, — неожиданно сказал Славик.
— Как?!.. И вы тоже... — растерянно развел руками Паганини.
— Есть, — упрямо сказал Славик.
— И в чем же вы его видите? — устало спросил Паганини.
— Вот в этом, — ответил Славик, протягивая руку к груди маэстро, где билось его сердце, сердце большого музыканта.
Паганини улыбнулся и обнял Славика.
— Спасибо, мой добрый Славик. Этот секрет мы не будем выдавать никому, поскольку о нем все равно уже всем известно.
Они долго разговаривали в этот день, и Паганини не переставал удивляться чуткости и глубине мысли молодого музыканта, сходству своих собственных суждений о музыке с суждениями гостя.
Когда пришло время прощаться, Паганини достал рукопись "Кампанеллы" и присел к столу, чтобы сделать дарственную надпись.
— Славик, — произнес он нараспев, словно вслушиваясь в произносимое слово. — Славик. Славная у вас фамилия.
— "Славик" по-чешски означает "соловей".
— Замечательно! — обрадовался Паганини. — Сладкозвучный Славик, сладкозвучный соловей.
Он быстро сделал надпись на рукописи и протянул ноты покрасневшему от радости юноше.
— Чем мне еще отблагодарить вас за радость встречи? — спросил Паганини и, увидев протестующий жест Славика, быстро добавил, — да-да, именно я должен вас благодарить, ведь сегодня случилось небывалое. Обычно мои гости считают себя обиженными, если я не "угощаю" их музыкой. Я не играл для вас. Моя скрипка молчала. Но кто посмеет сказать, что сегодня безмолвствовала скрипка великого музыканта! Я, Никколо Паганини, слышал ее сегодня, когда играли вы.
Смущенный похвалой, Славик молчал.
— Так чем же порадовать вас еще, соловей?
И тут Славику пришла в голову мысль смелая, даже дерзкая. Но была она столь соблазнительна, что скрипач не удержался.
— Маэстро, — тихо сказал он, — ваша скрипка у вас в руках звучит так, как не прозвучит ни у кого. И все же... Если бы вы... Всего несколько звуков...
Паганини понял. Давным-давно, став собственностью великого скрипача, инструмент этот не знал прикосновения чужих рук. Но на этот раз маэстро, не говоря ни слова, раскрыл футляр, достал своего знаменитого "Гварнери" и протянул Славику.
Молодой скрипач, отчаянно волнуясь, поднял смычок, и "Гварнери" запел...
В итальянском городе Генуе, где родился Паганини, в музее хранится скрипка великого музыканта. Ее называют "вдова Паганини ". Один раз в году, в октябре, витрину, где лежит инструмент, вскрывают, и совершается торжественная церемония. Победитель конкурса скрипачей имени Паганини в Генуе бережно берет эту скрипку, и "Гварнери", потрясавший мир своим пением в руках великого Паганини, снова начинает петь, и в звуках слышится: "Уходят великие мастера, уходят великие музыканты, но на смену им приходят другие, ибо искусство вечно, оно никогда не умрет!"
**** К несчастью предсказание Паганини не сбылось. Славик умер совсем молодым
Мастер проверил толщину деки, склонился над тисками, и над лезвием стамески взвилась тончайшая стружка. Распахнулись двери, и в мастерскую вошел незнакомый человек.
— Добрый вечер, господин Страдивари.
— Добрый день, синьор, — отозвался мастер, сразу оценив и важный вид вошедшего, и его добротную одежду.
Вошедший, впрочем, размашисто уселся на скамейку, смахнул с нее стружки жестом человека не самых утонченных манер.
— Что угодно синьору? — спросил Страдивари.
— Я хотел бы купить у вас виолончель.
— Синьор — виолончелист?
— Да-да, — чуть быстрее, чем следовало, ответил незнакомец.
— Синьор — артист или играет для души?
— От этого зависит стоимость виолончели? — несколько высокомерно поинтересовался гость.
— О нет, синьор, — смущенно ответил мастер. — Просто мне хотелось знать, в чьи руки попадет инструмент.
— Я плачу, — заметил господин и выразительно похлопал себя по бедру. — Я думаю, звон монет дает вам исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.
Страдивари сразу поскучнел. Он не любил покупателей, которые приобретали его инструменты, как мебель.
— Я к вашим услугам, синьор, — сухо сказал он.
— Недавно мне попался инструмент вашей работы, и я убедился, что он стоит той славы, которая сопутствует вам. Страдивари молча поклонился.
— Так вот, — продолжал гость, — я хотел бы купить у вас вашу лучшую виолончель.
— Свою лучшую виолончель я еще не сделал, — усмехнулся Страдивари.
— Так сделайте, — деловым тоном предложил незнакомец.
И он снова похлопал по кошельку.
— У меня есть две виолончели, — равнодушно ответил Страдивари, — синьор может испытать их здесь же, при мне. Незнакомец смутился и заерзал на скамейке.
— Видите ли, я давно не играл и... и у меня порезан палец, — заявил он, вытянув руку с перевязанным пальцем. — Прошу вас, покажите мне виолончель сами.
Страдивари насторожился. У незнакомца был перевязан палец правой руки, в которой держат смычок. Это не могло ему серьезно мешать. "Почему он не хочет играть? — мелькнула мысль. — А может, просто не умеет?"
Страдивари вышел в другую комнату за инструментами. Когда он вернулся, незнакомец стоял у верстака и очень внимательно изучал чертеж одной из скрипичных дек. Бумага вся была испещрена цифрами, и незнакомец настолько в них углубился, что даже не расслышал шагов появившегося мастера. Заметив наконец мастера, он поспешно положил чертежи и равнодушно отвернулся от верстака.
— Вот, синьор, мои виолончели, — сказал Страдивари, не обратив особого внимания на любопытство гостя. — Прошу прощения за невысокое умение игры на этом благородном инструменте. Тешу себя мыслью, что я настолько же хороший мастер, насколько скверный виолончелист. Взяв смычок, он стал играть. Сначала нечто неторопливое, затем подвижное. Показав один инструмент, Страдивари взял другой. Поиграл на нем.
— Первый, — уверенно произнес незнакомец.
— "Кое-что он понимает, — подумал мастер. — Хотя, может, это просто случайность... Не похоже. Очень уж уверенно он сказал".
Незнакомец между тем обвел взглядом мастерскую и сказал:
— Инструмент хороший, но я хотел бы убедиться, что он действительно лучший среди тех, что у вас есть.
И он взглядом указал на виолончель, которая стояла в углу. Это была виолончель из квартета, последнюю скрипку которого заканчивал Страдивари.
— Этот инструмент не продается, — сдержанно сказал мастер.
— В таком случае, — обиделся незнакомец, — остальные не покупаются.
— Синьор, — терпеливо принялся объяснять Страдивари, — эта виолончель входит в состав квартета. Продать только один инструмент из квартета — все равно, что продать одну ножку от стула, а потом пытаться на этот стул сесть. Ведь эти четыре инструмента — единое целое. Если вы согласитесь приобрести вместе с виолончелью остальные инструменты квартета, я готов отдать их в ваши руки.
— А почему вы считаете, что эти четыре инструмента — квартет?
— Видите ли, я добивался того, чтобы окраска звучания, тембр этих инструментов были едиными, чтобы инструменты эти дополняли друг друга. Глаза незнакомца заблестели.
— А как вы этого достигли?
— Вы, наверное, хотели спросить, сколько это стоит, — сдерживая раздражение, ответил Страдивари. "Ну и покупатель, - подумал он. — За это время можно было бы дом сторговать".
Дальнейшее произошло неожиданно быстро. Незнакомец выложил деньги за весь квартет и согласился зайти за ним, когда будет доделана последняя скрипка.
С тяжелым сердцем отдавал инструменты мастер. Не нравился ему этот покупатель. Скорее всего он какой-нибудь коллекционер. Ей-богу, лучше продать инструмент вдвое дешевле музыканту, чтобы инструмент звучал, жил. А коллекция — мертвое дело. Скрипка, которая не звучит для людей, не стоит дерева, затраченного на нее...
Прошло несколько месяцев. Страдивари увлеченно работал, все реже вспоминая о незнакомце и своем квартете. Он и вовсе позабыл бы об этом случае, если бы однажды...
Как-то ночью сон долго не приходил к мастеру. Ворочаясь с боку на бок, Страдивари вспомнил вдруг, что забыл закрыть бутылку с лаком, в который добавил можжевеловой смолы. Лак мог застыть. Браня себя, Страдивари накинул халат и с фонарем направился в мастерскую. Ключ упорно не хотел поворачиваться в замке. Страдивари рванул дверь, и дверь внезапно легко поддалась. Мастер метнулся в проем двери, освещая мастерскую фонарем. Неяркий свет ощупал углы комнаты. В одном из углов, прижавшись к стене, стоял человек. Пятно от фонаря поползло от ног к лицу человека.
— А-а, добрый вечер, синьор "виолончелист", — медленно произнес мастер, узнавая старого знакомого.
Тот вышел из угла и тяжело опустился на скамейку. В руках у него были рулоны чертежей, принадлежавших Страдивари.
— Извольте объясниться, сударь, — строго сказал хозяин.
"Виолончелист" помолчал. Потом вздохнул и начал говорить.
— Мое имя Доменико Саккини, — произнес он тихо. — Я, видите ли, как и вы, музыкальный мастер. Когда-то я был прекрасным мебельщиком-краснодеревщиком и нажил большой капитал. Я мог бы прожить всю жизнь в богатстве и довольстве. Но... понимаете, господин Страдивари, я очень тщеславен. Я пробовал заниматься разными искусствами, но все неудачно. Платил, бог знает сколько, за уроки живописи. Но я не чувствую гармонии цвета. Художника из меня не вышло. Я брал уроки игры на виоле и виолончели. Но, получая большие деньги за уроки, мои учителя презирали меня за мою немузыкальность. Изящная словесность, увы, тоже не мой удел. И тогда меня внезапно осенило: искусство музыкального мастера — вот он, путь к славе. Ведь я имел дело с деревом, рука у меня верная. Вырезать детали нужной формы и склеить их — велика ли трудность!.. Господи, сколько дерева я извел понапрасну! И тут я понял: нужно знать какой-то секрет, чтобы добиться успеха. Вы, Антонио Страдивари, знаменитый мастер, знаете его... Нет-нет, не притворяйтесь!.. Дайте мне ваши чертежи!..
— Послушайте, синьор Саккини, — перебил его Страдивари, — почему вы решили тогда купить у меня виолончель, а не скрипку? Вы даже, помнится, купили ради этой виолончели целый квартет.
— Я слышал, как звучат ваши прекрасные инструменты, и решил сделать точную копию одного из них. Я выбрал виолончель, потому что при постройке большого инструмента ошибка в размерах не сказалась бы столь губительно на его звуке... Что?.. Что такое?..
Страдивари, уронив фонарь на верстак, хохотал так громко, что дрожали струны на многочисленных инструментах, висевших по стенам.
— Скажите, — спросил он, успокаиваясь, — если бы вы сделали точную копию с картины Рафаэля, вы считали бы себя великим художником?
— Нет, конечно. У каждого художника и мастера должен быть свой секрет.
— Секрет! — с насмешкой воскликнул Страдивари. — По-вашему, самое главное — секрет. У хорошего мастера — как делать хорошие инструменты, а у плохого, значит, — как делать плохие? Ха! Вот в чем секрет, — он постучал пальцем по лбу. — И вот в чем, — добавил он, вытянув вперед руки с многочисленными шрамами и порезами... — Ну что можно скрыть от взгляда понимающего человека, какие секреты? Поди-ка скрой, какой материал берется на изготовление, скажем, корпуса скрипки. Да любой младенец в городе Кремоне знает, что для верхней деки нет ничего лучше равнослойной ели, а для нижней — явора. Размеры? Измеряйте сколько хотите. Лаки? Смолы? Чушь! Никаких секретов. Можете зайти к нашему аптекарю, у которого я покупаю лак чуть не ведрами. Он вам продаст такой же. Я вам скажу, синьор, в чем дело. Я сделал за свою жизнь несколько сот скрипок, альтов, виолончелей, мандолин. И с каждым из них, из этих инструментов, я нянчился, как с ребенком, пока не научил "разговаривать". Клянусь вам, что из каждого куска дерева я выжал то лучшее, на что он способен. Не было хорошего дерева, я делал из плохого.
— Нянькой тоже нужно уметь быть, — буркнул Саккини.
— Поздравляю вас, — без тени иронии воскликнул Страдивари. — Верные слова. Терпение и любовь — вот что нужно в нашем ремесле. И ум, обязательно ум. Вы хотите, чтобы ваши инструменты звучали хорошо? А как хорошо? Что такое это самое хорошо? То-то и оно, что вы хотите, чтобы они звучали вообще хорошо. А я знаю, чего именно добиваться от каждого инструмента, от каждого куска дерева. Страдивари схватил одну из скрипок и заиграл на ней.
— Нравится вам эта скрипка?.. А мне нет. В маленькой мастерской она звучит сносно, а в большом зале звук ее быстро угаснет.
— А как добиться, чтобы?..
— И это не секрет. Соображать нужно. Какая струна звучит ярче, громче, — та, что натянута, или та, которая приспущена?.. Конечно, та, что натянута. Чем больше напряжена струна, тем ярче звук. Но и перенапрячь нельзя — задохнется звук, "задавится", лопнет струна. А скрипка — та же струна. Если она будет напряжена, как мускулы дискобола, в звуке будет и сила, и яркость. И настроить ее нужно, как струну...
— Настроить? Не понимаю. Настроить дерево, корпус без струн?!
— Вот именно!
— А на какие звуки? Какие ноты?
— Не хватит ли вопросов господин неудачник! Языком скрипку не построить. И потом... я хочу спать.
— Да-да, я сейчас уйду, — поспешно сказал Саккини. — Однако позвольте мне еще посетить вас. Я вынужден.
Страдивари удивленно поднял брови.
Видите ли, — смущенно продолжал Саккини, — мастеря копию вашей виолончели, я разобрал образец, ваш инструмент.
— Вы погубили мою виолончель!
— Почему погубил? Вы снова склеите ее. Ведь все части вашей виолончели целы.
— О господи! Тысяча нот — это еще не соната. Десяток деталей — это еще не музыкальный инструмент. Вот и вы можете научиться делать все детали инструмента не хуже моего. Главное же не в этом. Их, как звуки музыки, нужно привести к согласию, к гармонии.
— Гармония кусочков дерева?
— А разве, будучи краснодеревщиком, вы не делали того же, создавая орнаменты? Разве не искали гармонии?
— Вы правы, — воскликнул Саккини.
— Ну хорошо, — проворчал Страдивари, — приходите завтра же.
— Вы соберете ее, — обрадовался Саккини, — и она зазвучит не хуже, чем прежде?
— Я не помню, как она звучала прежде, — сердито заметил Страдивари. — Я не могу сделать дважды один и тот же инструмент. Но я попытаюсь заставить ее петь, как поет моя лучшая виолончель.
— Так у вас все-таки есть образец! Вы покажете его мне? Умоляю вас!
— Показать? Да я сам ни разу его не видел. Я только слышу их, свою лучшую виолончель и свою лучшую скрипку. Они звучат у меня здесь и здесь, — Страдивари ткнул пальцем в висок и приложил руку к сердцу. — Любезный мой синьор, я слышу звучание своих инструментов еще до того, как начинаю их делать. Я сам становлюсь скрипкой или виолончелью. О, если бы я мог их сделать такими, какими слышу внутри! У вас внутри поет скрипка?
Саккини старательно прислушался.
Нет, он не услышал поющей скрипки, а когда попытался вызвать в своем воображении ее звучание, получилось что-то неопределенное, ускользающее.
И тогда он сказал:
— Благодарю вас, синьор Страдивари! Кажется, я понял, в чем ваш секрет.
С этими словами он поклонился великому мастеру и покинул его мастерскую.
Он был не первым и не последним, кто пытался слепо подражать легендарному мастеру из Кремоны, не понимая, что создание музыкальных инструментов — это искусство, а в искусстве каждый творец должен идти своей дорогой, каждый художник должен быть неповторимым. Страдивари слышал звучание своих инструментов еще до того, как начинал их делать.
Он прожил девяносто лет, сделал за свою долгую жизнь более тысячи инструментов и работал до последнего дня...
Издревле – стёрты даты, не помнит никто имён,
со времён архаических, и кочевых племён
добивались господства и власти любой ценой –
промышляли сначала охотой, потóм войной.
Гибкий лук с нестерпимо натянутой тетивой
вкупе с каменным сердцем, холодною головой
был оружием мести, захвата чужих земель –
человек убивал человека, прятался зверь.
Словно рой, смертоносные полчища метких стрел
колыбельные мёртвым пели – воздух звенел.
И разгневался Бог – доколе терпеть вражду,
сеять ужас, слезу проливать, пожинать нужду?
И послал усталому воину странный сон,
будто арфу чудесную сделал из лука он:
изготовил струны и бережно их натянул,
а тем временем Бог в неё голос живой вдохнул.
Когда сон отпустила явь, отступила мгла,
не развеялись чары, и арфа в руках была.
Зазвучала мелодия словно сама собой,
размягчая сердце, даруя душе покой.
И отныне воин стрелу отпустить на смерть
не сумел из лука, даже руку поднять не смел.
Арфа пела баллады о том, что пришла пора
милосердия, веры, сочувствия и добра.
Старец пел, а молодой человек быстро-быстро записывал в записную книжку слова песен. Старый певец не видел этого, потому что был слеп, но если бы он узнал, что за ним записывают, он бы, верно, замолк и предал тяжкому проклятию того, кто так невинно обманывал его для пользы науки.
Молодой человек был валлийский грамматик Дэвис Рес, прославившийся впоследствии исследованиями по части отечественного языка и древностей. А слепой певец был последним потомком тех самых бардов, которые в старину занимали первое место в уважении всех племен, населявших Англию и Ирландию, потом подверглись страшному, неумолимому гонению от позднейших английских королей и, наконец, были совершенно истреблены одним из них, Эдуардом I.
Кто же были эти барды? Какое право имели они на уважение соплеменников?
Кельты называли бардами членов особенной касты, которая должна была воспевать подвиги храбрейших воинов: так толкуют нам их имя греческие и римские писатели. А под именем кельтов известно сильное и многочисленное племя, в глубокой древности уже заселявшее Европу.
Кельтов считают первыми выходцами из Азии в Европу.
Жрецы кельтских богов назывались друидами. Они постоянно совершали все свои обряды в дубовых рощах, которые считались священными. Само слово друид происходит от бретонского слова "дуб". Гай Юлий Цезарь и все писатели древности согласно указывают на Британию (Англию) как на средоточие, как на главную школу, в которой преподавались все тайны бардической и друидической премудрости. В незначительном числе сохранились кельты и до нашего времени в Бретании, в княжестве Валлийском, Ирландии и северной Шотландии.
Кельты почитали касту бардов, друидов и гадателей одним из важнейших классов народа и ставили их даже выше своих королей. Это уважение, впрочем, происходило не оттого только, что они были народными певцами, а потому, что на высших членов этой касты возложены были обязанности религиозные, исправление которых передавалось от отца к сыну. При каждом храме (по словам Гекатея, писателя, жившего за два с половиной века до Р. X.) был свой бард; на него возложена была обязанность воспевать под звуки арфы славные деяния бога, которому он служил, охранять его храм и управлять ближайшим городом. За этим высшим классом бардов следовал второй, воспевавший героев на поле сражения. Третий и низший класс составляли жившие при дворе королей. Предметов для песен у последних было всего три: родословие королей, их богатство и храбрость.
Вот все, что знаем мы о бардах до Рождества Христова и в первые четыре века после него. Они так высоко ставили себя сами, так всегда удалялись от толпы, так любили глушь уединение, что до нас дошли известия самые скудные, и ничего нельзя сказать определенного ни о происхождении их касты, ни о месте, которое она занимала в обществе до IV века по Р. X. С IV века известия становятся полнее. Около этого времени римское правительство приказало жестоко преследовать друидов в Британии (нынешней Англии): друидов всюду хватали, сажали в темницы и казнили, опасаясь их влияния на народ. Барды, тесно связанные с ними, как служители богов, также подверглись гонению и должны были укрываться в непроходимых дебрях и лесах, чтобы избежать участи своих гибнущих собратьев, а римляне между тем свирепствовали страшно: вырубали священные рощи, разрушали храмы... Мало-помалу после избиения друидов барды-священники исчезли совершенно, и остались только два низших класса их, состоявших из бардов-поэтов.
Когда римляне, владевшие Британией в течение 400 лет, наконец, покинули ее в начале V века, барды снова ожили: громко раздались их песни, и опять стали они пользоваться прежними выгодами, прежним уважением и прежним влиянием. Один только высший класс их — барды-священнослужители — не воскрес уже более...
Да и к чему было бы ему воскресать? В Ирландии уже давно процветало христианство, весьма быстро распространившееся там; вскоре принесено было оно и в Британию и кротко, мирно, почти без всякой борьбы вытеснило скоро оттуда и язычество, и друидов, построив первые церкви из их священных друидических камней и начертав имя Спасителя на таинственных дольменах, (Дольменами, т.е. каменными столами, называют весьма древние памятники, сохранившиеся и до нашего времени во всех странах, где жили кельты. Они состоят из трех камней: два стоймя, а третий, большой и плоский, положен на них сверху. Значение их до сих пор не вполне определено).
Но барды-певцы не исчезли и после распространения христианства в Британии, они, напротив, теснее, чем когда-либо, слились в отдельные общины, которые управлялись одинаковыми законами, одарены были равными правами, занимались исполнением одних и тех же обязанностей. Христианские проповедники не преследовали их, видя, что они оказывают полезное влияние на народ.
Барды у кельтов-бретонов, заселявших всю Южную Англию, делились, обыкновенно, на три класса: на учеников, домогавшихся вступления в касту бардов; на бардов-придворных; на главных, или учителей.
Желавшие вступить в число бардов, поступали сперва на несколько лет в учение к одному из главных, который подвергал их поэтические способности различным испытаниям и имел право принять их в касту или не принять, смотря по таланту. Этим ученикам, в годы учения, позволялось (также в виду испытания) петь при разных торжественных случаях, но из денег, полученных за это, они всегда должны были отдавать третью часть барду, у которого учились. Если они покидали своего наставника, по неспособности или по какой-нибудь другой причине, не добившись звания барда, то все же получали право всегда носить с собой арфу, и таким образом пропитание их было навсегда обеспечено. Когда же ученик преодолевал все трудности испытаний, то поступал во второй разряд, в число бардов королевских, или придворных.
Этот второй разряд принадлежал ко дворам королей и играл при них роль довольно значительную. Когда, бывало, короли садились за стол у огромного очага, в низенькой зале своих деревянных дворцов, и около них собирался их двор, барды всегда сидели по сторонам короля, наравне с высшими придворными чинами. Они обыкновенно помещались во дворце, и каждый получал лошадь с королевской конюшни. Король, сверх того, обязывался давать барду и жене его платье, довольно дорогое по тому времени, потому что за него платили три коровы. Придворный бард всегда держал в руках арфу, подарок короля, и носил на пальце золотое кольцо, которое дарила ему сама королева в день вступления в касту бардов. Если королю угодно было слышать пение, то бард должен был спеть ему, точно так же, как и всякому благородному, три различные песни. Если королева призывала к себе барда и просила его петь, он должен был спеть ей три песни о любви, но вполголоса, чтобы не обеспокоить придворных. Если же простой поселянин просил барда петь, то закон повелевал ему петь «до изнеможения», так как считалось, что народ должен стоять к барду гораздо ближе, нежели король, королева и все знатные. На войне он обязан был петь во время битвы, и за то при разделе добычи, сверх части, которую получал каждый воин, ему дарили быка. Сверх золотого кольца и арфы (с ними бард во всю жизнь не должен был расставаться), бард получал еще во владение пять акров (т.е. полторы десятины) земли, с которой не взыскивалось никаких налогов.
В эти времена невежества, когда такую важную роль играла грубая сила, лучшим из всех преимуществ барда было право защищать слабого, право останавливать и вести к королю всякого обидчика. Он пользовался этим прекрасным правом по словам закона, «во все время между своей первой песней на рассвете и последней при вечерней заре», — т.е. постоянно. Личность самого барда была неприкосновенна. За оскорбление его законом налагалась тяжелая пеня в 6 коров и 120 серебряных монет, а за убиение его — 252 коровы или столько же серебряных монет — сумма огромная для того времени. За убийство всякого знатного не налагалось такой тяжелой пени, и даже убийство королевского доктора, лица, чрезвычайно важного в то время, искупалось половиной этой стоимости. Вообще, народ так высоко ставил личность барда, что в истории кельтов можно указать только один случай убийства, совершенного над бардом, за что убийцу предали тяжкому проклятию, прокляли и орудие убийства. Дерзнувший на жизнь барда остался в памяти народа под именем обесчещенной головы.
О главной обязанности бардов древние бретонские законы выражались так: «Бард да сохранит воспоминание обо всем достойном похвалы в отдельном лице, племени и современных ему происшествиях». Сверх того, закон воспрещал им носить оружие и повелевал «поддерживать и распространять всюду знания, вместе с любовью к добродетели, мудрости и гостеприимству». Высший разряд, главные барды-учителя, происходили из описанного нами среднего разряда, из бардов придворных. Этого достоинства можно было достигнуть только поэтическим состязанием.
Каждые три года, на какой-нибудь горе, происходило под открытым небом торжественное собрание всех бардов из окрестной страны. О происхождении таких собраний известно только, что обычай их в V и VI веках уже считался весьма древним и прежде, вероятно, был связан с какими-нибудь религиозными обрядами, но мало-помалу, когда древняя религия друидов сменилась христианской, старые обряды забылись, и эти собрания обратились в поэтические состязания, на которых каждый из явившихся бардов пел свою песню под звуки арфы. В присутствии короля и начальников разных кланов (родов, колен), в громадном собрании народа выслушивались эти песни и определялось, которая из них была лучше всего. Тому, кто сложил такую песню, королевский судья вручал серебряную арфу; его опоясывали голубым шарфом, сажали на золоченый стул и при громких, радостных криках толпы, при торжественном согласном бряцании кельтских арф (арфы с тройным рядом струн, что придавало звукам их особенную силу и приятность) объявляли главным бардом всей страны и бардом, возведенным на трон.
С этой минуты бард вступал в высший класс народа и уже не принадлежал более к придворным короля: он целой головой стоял выше всех их благодаря новому достоинству. Ему отводилось помещение во дворце наследника престола. Когда он был при дворе, никто из бардов не смел петь прежде него; едва появлялся он при входе в залу пиршества, как по знаку короля должен был на пороге спеть две песни: одну во славу Божию, другую — в честь королей бретонских. Когда он заканчивал, один из бардов королевских вставал и затягивал свою песню, но закон повелевал ему, из уважения к главному барду, петь вне залы, ниже сеней. Затем главный бард садился за стол по правую руку наследника престола, то есть на высшее, почетнейшее место. По обычаю того времени всем сидевшим за столом кушанье разносилось отдельными порциями, которые назывались скучной мерой, но главному барду закон позволял не подчиняться этому обычаю, а есть и пить сколько душе угодно. Права главного барда были очень значительны. Ни один из обыкновенных бардов не мог ничего просить у короля иначе, как через него, ему принадлежало право оценки поэтических произведений их, ему поручали учение и воспитание юношей знатнейших фамилий, которыми обыкновенно окружал себя наследник престола.
И выгоды со званием барда были соединены немалые. К пяти акрам земли, которыми владел всякий бард, ему с получением нового звания прибавлялся значительный участок, при всех празднествах и торжествах он постоянно получал плату вдвое более против обыкновенных бардов, каждая из молодых девушек, выходившая замуж в окрестностях, приносила ему по подарку.
Закон вменял в обязанность всякому главному барду «знать наизусть все древние песнопения, сложенные в честь королей и именитых мужей бретонских, в особенности сочиненные главными бардами». Так сам закон заботился о сохранении преданий, переходивших из уст в уста. Высокое значение главного барда выражалось и ценностью арфы, которую получал он в виде награды на состязании. Эта серебряная арфа должна была, по закону, стоить 120 серебряных монет, следовательно, вдвое дороже серебряного воинского щита и самого лучшего меча с серебряной рукоятью, в одиннадцать раз дороже плуга; ясно, что народ, создавший подобный закон, ценил вдохновенные песни барда выше всех сокровищ. Мы должны упомянуть еще об одном и, вероятно, самом важном преимуществе барда: бретонские законы того времени о нем говорили так: у всякого раба два сына могут быть свободными: первый — бард, второй — духовный, ибо как только сын раба пострижется или поступит в учение к бардам его господин уже не имеет более никакого права над ним.
Итак, поэзия освобождала наравне со священством. От этого закона произошла у бретонов и поговорка: «Березовая ветвь срывает с ног оковы». Барды носили на голове венки из березовых ветвей.
Да, велико было назначение барда у древних кельтов. Он свято хранил в памяти предания о старине и научил своих современников действовать по примеру доблестных предков, он строго наблюдал за правдивым исполнением законов, карая едкой насмешкой всякого нарушителя их и поощряя завидной похвалой все доброе, все прекрасное в своих современниках. Он смело вступался за всякого невинно страдавшего и слабой рукой мог обуздать гордого и могучего. Вот на каких прекрасных началах основывалось влияние бардов на народ. Вот почему благосклонно смотрели на них христианские проповедники.
От отца к сыну, вместе с кольцом и арфой, передавалось уважение к старине, любовь к добродетели, и пышно цвели новые поколения поэтов под кровом старых, как молодые отпрыски дубов в тени своих могучих, столетних, широколиственных предков. Много разных песен сложили бретонские барды, но до нас дошли сочинения лишь весьма немногих. Больше всего осталось песен Талиезина, Анерена и Ливарха, любимых поэтов древних кельтов-бретонов.
Когда в начале V века римляне принуждены были покинуть Британию, все население ее вдруг словно ожило. Племена бретонов, никогда не покорявшиеся владычеству иноземцев, были оттеснены силой римского оружия в юго-западный угол Англии. Там, за неприступными горами, долго жили они среди голых скал и дремучих лесов, предпочитая бедность и свободу довольству и рабству. По удалении римлян, бретоны первые восстановили у себя древний образ правления (бретоны делились на множество мелких колен, и в древности каждое колено управлялось отдельным князем). Они также возобновили прежний союз между своими отдельными племенами. Более сорока лет прожили они в мире, спокойствии и довольствии. Возвратившись на свои прежние земли, они успешно бились с внешними врагами своими, пиктами и скоттами, от которых, казалось, одни римляне были в состоянии защитить их, да и те так опасались этих беспокойных соседей, что для прикрытия своих владений от набегов перегородили всю Англию толстой стеной и целым рядом укреплений, остатки которых и теперь еще видны между устьем Клейда и заливом Фортским.
Пикты (жившие на востоке Англии вдоль берегов) и скотты (занимавшие северо-западные берега Шотландии), однако же, не успокаивались, несмотря на то, что были разбиты бретонами несколько раз кряду. Тогда-то задумали бретоны просить помощи у саксов, воинственного германского племени, которое занималось морскими разбоями и также беспокоило иногда набегами берега Британии. Те согласились за известную дань помочь кельтам в борьбе с северными племенами и в большом числе высадились на британский берег. Но им так понравилась южная Британия, что они решились отнять ее у бретонов и поселиться в ней. С этой целью они не только не стали воевать против пиктов и скоттов, а вошли с ними же в тесные дружественные сношения и общими силами ударили на бретонов.
Принужденные защищаться от неприятеля, нападавшего на них одновременно с северо-востока и юга, бретоны выказали геройское мужество, защищались упорно и долго; но кто бы мог устоять в такой неравной борьбе? Они принуждены были снова удалиться в свои родные неприступные леса и горы и с лишком 70 лет в них отсиживались.
Одно время (во второй половине VI века) для них блеснул луч надежды на избавление от чужеземного ига, но ненадолго. Во главе союза бретонских городов явился Уриен, человек необыкновенный, умевший всех заставить действовать согласно против общего врага. Одержав несколько побед над саксами, он отнял у них часть завоеванных ими земель, но остальные князья бретонские глядели с завистью на его успехи, и Уриен был тайно умерщвлен подосланным к нему убийцей. С этой минуты начинается бесконечный ряд утрат и несчастий. На северо-западе англы (последнее германское племя, высадившееся на берега британские) окончательно утвердились на родимой почве бретонов и основали два королевства. На юге саксы, взяв три бретонских города и умертвив трех бретонских королей, обложили тяжкой данью все мелкие племена, которые не были самой природой защищены от их натиска.
Посетив свою тоню в первый раз, Эльфин увидел, что в ней не было ни одной, даже мелкой, рыбы, хотя весной ловы в этом месте всегда были очень хороши. Опечаленный новым доказательством своего постоянного несчастья он собирался уходить с тони, когда вдруг заметил что-то черное на плотине у самого шлюза. Ему показалось, что это был кожаный мех. Один из рыбаков сказал ему:
— Видно, нет тебе ни в чем удачи. Уж на что лучше этой тони, бывало, в ней каждый год первого мая ловилось многое множество всякой рыбы, а нынче всего вон только и вытащил что кожаный мех.
Подошли они оба к тому, что казалось им издали кожаным мехом, и увидели корзину, плетенную из ивовых прутьев и покрытую кожей. Подняли крышку, и каково же было изумление их: в корзине спал прекрасный младенец. Минуту спустя он открыл глазки, улыбнулся и потянул к ним свои маленькие ручонки.
— O tal-iesin! (то есть на бретонском языке: какое сияющее чело), — воскликнул рыбак, указывая на ребенка и в изумлении расставляя руки.
— Tal-iesin! — повторил Эльфин, вынимая ребенка из корзины и прижимая его к своей груди. — Так пусть же и называется он Талиезин!.. Держа младенца на руках, Эльфин сел осторожно на коня и тихонько поехал домой. Он не мог удержаться от слез, глядя на ребенка и раздумывая о своей постоянной неудаче. Вдруг ребенок запел, и песня его скоро утешила Эльфина.
— Полно плакать, Эльфин, — говорил он в ней, — твое отчаяние не поможет. Полно лить слезы! Не всегда ты будешь несчастлив. Бог посылает человеку богатства и со дна морской пучины, и с высоких горных вершин, и из волн речных. Хотя я слаб и мал, а придет время, когда я буду тебе полезнее множества рыбы. Не сокрушайся. Во мне, по-видимому, нет вовсе силы, но зато уста мои чудесно одарены свыше. Пока я буду с тобой, тебе нечего опасаться.
Эльфин приехал домой веселый.
— Ну, что же ты поймал? — спросил его отец.\
— То, что гораздо получше рыбы, — отвечал сын.
— Да что же такое?
— Я поймал барда, — сказал Эльфин.
— Барда? Да на что он может тебе пригодиться? — печально возразил отец.
Тут Талиезин сам вступился за себя:
— Бард будет ему полезнее, — сказал он, — чем тебе твоя тоня.
— Как! Ты уже умеешь говорить, малютка! — воскликнул изумленный начальник племени.
— Да, я могу отвечать прежде, чем ты меня спросишь, — сказал Талиезин и запел: — Мне известно все: и прошедшее, и будущее.
Эльфин отдал Талиезина на руки доброй кормилице, и с этого дня в течение целых двенадцати лет счастье не оставляло его дома. В год, когда Талиезину минуло тринадцать лет, Мэльгун, король гвенедский, пригласил к себе Эльфина на праздник. Случилось это на самую Пасху, и потому торжество у короля было великое: столы ломились под тяжестью яств. Когда гости порядочно подгуляли, отовсюду послышались самые преувеличенные похвалы хозяину.
— Есть ли на свете король славнее Мэльгуна, — король, у которого и барды были бы искуснее его бардов, — говорили гости, — и воины храбрее, и лошади быстрее его лошадей и борзые лучше его борзых? Нет, такого короля не найдешь в целом свете.
Такая лесть раздосадовала Эльфина.
— Конечно, — сказал он, — трудно тягаться с королем в чем бы то ни было, но что касается до бардов, то я смело могу сказать, что у меня дома есть бард, который всех королевских за пояс заткнет.
Все барды Мэльгуна и между ними Гейнин восстали против Эльфина, и двор, и гости ужаснулись неслыханной дерзости и донесли о том королю. Повелел король бросить бедного Эльфина в тюрьму и держать его в цепях до тех пор, пока тот не докажет, что его бард мудрее бардов королевских.
Когда слух о пленении Эльфина дошел до Талиезина он незамедлительно явился к королю. У того как раз шел пир со знатными людьми королевства. Талиезин вошел в залу пиршества и спрятался в угол, мимо которого должны были проходить придворные барды, направляясь на поклон королю. В то время как барды проходили мимо него, он стал корчить им гримасы, на которые те не обращали внимания; но когда они остановились перед королем, желая приветствовать его, ни один из них не мог выговорить ни слова. Когда же король велел им петь, то все они против своей воли скорчили королю рожи и стали что-то бормотать себе под нос. Король вообразил, что они пьяны, и в гневе обратился к главному из них, Гейнину, требуя, чтобы он объяснил странное поведение бардов, угрожая ему страшным наказанием. Гейнин пал к его ногам:
— Государь, не излишнее употребление вина заставляет нас являться к тебе в таком странном виде: мы не пьяны, но нас попутал бес, он сидит вон там в углу, приняв вид ребенка.
Услышав такую речь, Мэльгун велел призвать к себе Талиезина и спросил его, кто он и откуда пришел. Мальчик отвечал ему на это:
— Я главный из бардов Эльфина. Звездное небо — мне родина. Никому не известно происхождение мое, а мне известно все: и прошлое, и будущее.
Король был очень изумлен, услышав это, и, вспомнив, как Эльфин нагло бахвалился, приказал Гейнину состязаться с Талиезином в пении. Едва только Гейнин вздумал запеть свою песню, как вдруг смешался, стал опять гримасничать и бормотать невнятные слова. Напрасно Мэльгун грозил ему и, словно разъяренный лев, метался во все стороны, приказывая каждому из бардов своих петь, как бывало, певали на пирах, напрасно умолял он их поочередно не срамиться перед бардом его подданного: все придворные барды делали то же, что и Гейнин, самый искусный из них.
Наконец Мэльгун обратился к Талиезину:
— Вижу могущество твое, — сказал он, — но чего же ты от меня требуешь? Зачем ты пришел сюда?
— Я пришел сюда, — отвечал мальчик, — чтобы освободить моего благодетеля из твоих оков. Знай, что много заключается тайной силы в моей песне, что мне стоит только запеть, и ни камни, ни железные цепи — ничто не устоит против моей песни. А тебе я скажу, что с тобой приключится за твое высокомерие.
И он запел грозным голосом песню, от которой кровь застыла в жилах Мэльгуна:
— Вон поднимается на море страшное диво, вон несется оно сюда наказать гордого Мэльгуна, короля гвенедского: и лицо, и глаза, и волосы его желтеют, как золото! Смерть ему, неправдивому!.. Сами боги несут эту страшную кару, поднимая ее своим могучим дыханием со дна пучины на Мэльгуна, короля гвенедского. Чуть только успел он произнести последние слова песни, как с моря вместе с сокрушительным порывом ветра налетел на дворец громадный водяной столб и разбился о его стены. Пошел по всем покоям от этого удара треск и гул. И король, и весь двор выбежали из дворца, ожидая с каждой минутой, что он обрушится на их головы.
— Скорее освободите Эльфина и ведите его сюда! — закричал в ужасе Мэльгун.
Привели Эльфина и отдали его Талиезину, который тут же спел такую сладкую песню, «цепи сами собой упали с его благодетеля».
Вот что рассказывает нам народная легенда. В ее наивных словах видно все высокое, величавое и грозно-могучее представление, какое составилось в воображении народа о личности барда. Теперь обратимся мы от сказок к действительности и опишем личность Талиезина такой, какой она является нам в древних бретонских памятниках и в его собственных песнях.
Талиезин родился в первой половине VI века. Лучшие историки и критики согласно утверждают, что родиной его был Кумберланд, а не Валлис, как думали валлийские летописцы. Отец его, Ионис, пожелал дать сыну хорошее воспитание и поручил его надзору св. Кадока, который в то время основал в южной Англии школу для туземного юношества. В этой школе Талиезин ближе всех сошелся с Гильдом, который впоследствии прославился как ревностный христианский проповедник и был причтен за то к лику святых. Несколько лет провели они вместе. Наконец настало время, когда оба, окончив ученье, должны были выйти из школы. Святой наставник призвал к себе Талиезина и Гильда, благословил их и, поцеловав, дал им следующий мудрый совет:
— Дети мои! Трудно жить на свете, и много нужно в жизни осторожности. Послушайте же меня. Когда вам придется говорить, рассудите, во-первых, о чем вы говорите; во вторых, как вы говорите; в-третьих, с кем вы говорите; в-четвертых, в чью пользу вы говорите; подумайте, что выйдет из ваших слов и кто может стороной слышать вашу речь. Соблюдая такую осторожность в речах, вы никогда не подвергнетесь никакому несчастью.
На пороге училища Талиезин расстался со своим другом и пошли они в жизни по двум разным дорогам. Вскоре после того Талиезин, ловивший рыбу с лодки, недалеко от берега, был захвачен в плен морскими ирландскими разбойниками. Горько было ему, когда с борта ладьи увидел он, как родные берега исчезали в туманной дали. Мысль о побеге не оставляла его ни на минуту. В бурную темную ночь, воспользовавшись удобным случаем, он отвязал свою маленькую лодочку от разбойничьей ладьи и пустился в море, захватив с собой деревянный щит вместо весла и решаясь скорее умереть, чем в тяжкой неволе тосковать по отчизне. Долго носило его по морю, много раз грозил ему смертью шумящий вал и выкинул его, наконец, изнеможенного, беспомощного, на прибрежье, принадлежавшее Эльфину, сыну Уриена, могущественного и доблестного князя бретонского.
Ум, знания, поэтические способности Талиезина изумили Уриена и весь его двор. Талиезину велел он дать клочок земли, поручил воспитание своих детей и сделал его главным придворным бардом.
С этих пор облагодетельствованный им Талиезин горячо привязался к нему и во всю жизнь не покидал доброго Уриена, не раз оказывая ему очень важные услуги. Эти-то события и были обращены народом в сказку, которую рассказали мы читателям в начале главы.
Время правления Уриена было временем торжества бретонцев над внешними врагами: саксами, пиктами и скоттами. Но недешево обходилось это торжество Уриену и всем его подданным (Уриен правил Регедом, княжеством, простиравшимся на север от Гембера). Они почти не снимали с себя кольчуг и шлемов, почти не выпускали из рук тяжелых топоров, острых мечей, крушительных палиц. Уриен всем подавал пример неутомимости, воздержания, и ему легче было переносить все эти трудности, потому что с ним был Талиезин, который подкреплял его мужество своими сладкозвучными песнями и щедро награждал похвалами его подвиги.
Когда грозно сходились в бою воины Уриена с враждебной ратью, Талиезин, ободряя их, являлся в первых рядах и, воспевая подвиги предков, побуждал их к таким же подвигам. Но когда шумный бой загорался, когда завязывалась лютая сеча, в которой со звуком мечей смешивался громкий нескончаемый хор предсмертных стонов и воплей ярости, тогда Талиезин удалялся на ближайший холм, с его вершины зорким взглядом следил за битвой, и ничего не ускользало от взоров его. Светлое, торжественное вдохновение овладевало им и помогало сложить живую, пламенную песню, в которой не пропадали ни один звук, ни одна черта боевой тревоги.
Легко было на сердце утомленных воинов, весело было им слушать вечером, после боя, новую песню своего вдохновенного певца, когда под открытым небом располагались они у ярко пылавших костров и подкрепляли истощенные силы круговым рогом меда, оплетенным серебряными обручами.
Так Талиезин был во всех битвах вместе со своим покровителем и другом: он был и при Аргоеде (одна из местностей в долине Клейда), где бретонцы бились с саксонцами от восхода до заката и смешали их кровь с кровью союзных им беспокойных скоттов, и при Гвен-Эстраде, где бретонцы под стенами этой крепости погребли целую саксонскую армию, искусно отбросив одну половину ее к реке, в которой враги погибли среди смятения, не отыскав брода; он был и при Менау, где в самом пылу битвы страшный Ида, саксонский богатырь-предводитель, пал от копья Овена, сына Уриенова.
С самым неподдельным восторгом говорил Талиезин в своих песнях о богатой поживе бретонцев, почти по пальцам пересчитывая быков, коров, лошадей и всю захваченную ими добычу. Но все песни свои заключает он непременно обращением к Уриену, которому говорит в одной из них, что «перестанет улыбаться, когда Уриена не будет более в живых». А в другой прибавляет: «Какое мне дело до того, любят ли меня все короли Севера или нет, когда все мое высшее благо заключается в тебе, Уриен, свет мой. В день твоей смерти скорбь пойдет по пути перед тобой; когда смерть посетит тебя, она придет и ко мне».
Все эти похвалы и изъяснения привязанности могут показаться лестью только тому, кто позабыл, что Уриен был освободителем отечества; он был непобедимо мужественен, но кроток и, следовательно, вполне достоин восторженных похвал, проистекавших из нежной сердечной привязанности, от истинного и понятного изумления, а не от желания угодить сильному. Все песни Талиезина вообще проникнуты этой приятной нежностью, и его образы далеко не так резки, жестки и кровавы, как образы других бардов.
Горько оплакав кончину Уриена, Талиезин не покидал его сыновей, но вскоре они пали в битвах, и сам, покинутый всеми, лишившись лучших своих радостей, он удалился в Валлис, на берег озера Кернарвона, где один из начальников клана подарил ему небольшой клочок земли и хижину. Там часто, печальный, одинокий, сидел он на берегу и в глубокой горести повторял: «Горе мне! Я видел, как облетели цветы; я видел, как отсохла ветвь, носившая их».
Пришла наконец и старость, с ее недугами и слабостью. Наследники того начальника клана, который приютил Талиезина в своей земле, не пожалели старого барда, отняли у него хижину и последний клочок земли. Бесприютным сиротой покинул он Валлис.
В несчастии невольно вспомнил он свое беззаботное детство, мудрого наставника и св. Гильда — друга, с которым разлучили его жажда славы и бранные тревоги, так долго находившие себе отголосок в его сердце. Но этот друг был тогда далеко: вместе со значительной частью бретонского населения он, по примеру св. Кадока, переселился на материк ЕВРОПЫ — в Арморику (нынешнюю Бретань). До Талиезина дошли слухи о том, что в Арморике царствуют мир и спокойствие тогда как около себя он видел только торжество грубой силы да тягость чужеземного ига... И захотелось ему, беспомощному, отдохнуть от тревог и бедствий под гостеприимным, мирным ковром дружбы. Он сел на первое судно, отплывавшее в Арморику, и покинул берега своей родины. Где умер он? Спокойно ли? Об этом ничего не знают летописцы.
Отличительной чертой Анёрена была пылкость характера, самая сильная восприимчивость всех впечатлений и расположение к поэтическому бешенству. Невозможно иначе передать смысл бретонского прилагательного, которое обыкновенно соединяли с именем Анёрена его современники и писатели последующих веков, называя его бешенно-вдохновенным. Ничто лучше этого слова не передаст необыкновенной способности Анёрена к живому представлению кровавых и ужасных картин, к вставлению в песни свои таких страшных проклятий, которые дыбом поднимают волосы у каждого слышащего их и могут исходить только из уст человека, находящегося на высшей степени раздражения и нравственного и телесного.
Около 578 года все бретонские кланы (на пространстве от Сольвэсского залива до озера Ломонда и от устья Форда до устья Клейда) соединились в один обширный союз для отражения пиктов, скоттов и англов, которые пытались с севера пробиться сквозь ряд стен и укреплений, построенных ещё римлянами и служивших кельтам защитой от набегов воинственных соседей. На защите этих стен основывалось счастье и довольство всего бретонского населения. За этими стенами были их жены, дети, старики и могилы предков, все добро их и земля родная, вспаханная в поте лица, орошенная кровью близких... Немудрено, что 363 начальника кланов поспешили на защиту этой священной стены, едва только стала на севере собираться грозная туча. Между этими начальниками кланов на первом месте стоят: бард Анёрен (тогда правивший Гододином, небольшой областью на берегах Клейда), Овен, старший сын и наследник Уриена, и Менезок, король эдинбургский. Защита стены длилась семь дней и сосредотачивалась преимущественно около главного ее пункта — крепости Кальтраез. Сначала перевес был на стороне бретонов; но потом, увлеченные успехом, они возгордились, забыли: осторожность и осмотрительность, главные качества всякого хорошего воина, и стали только петь песни да бражничать. Тогда враги, воспользовавшись их беспечностью и невоздержанностью, напали на них ночью и всех перебили. Это происшествие Анёрен описал в превосходной поэме, которую назвал, по имени своей области, «Гододин».
«Шумно и весело, — говорит бард в начале своей поэмы, — стекались к Кальтраезу отряды воинов; но бледный мед, их любимый напиток, отравил их, погубил их. Непоколебимо, упорно, без устали бились они с врагом своими огромными, кровавыми мечами. Их было всего три сотни против одиннадцати сотен. Много крови пролили их копья, но сами они пали один за другим в рядах Менезока, славного вождя храбрых, пали от метких стрел Смерти прежде, чем успели в церквах покаяться!»
Так бард начинает свою поэму и описывает потом мелкие стычки первых двух дней, в которых перевес был постоянно на стороне бретонов.
«С восходом солнца на третий день, — продолжает бард, — Тудвульер и многие другие бретонские вожди взошли на вершину башни для наблюдения над неприятелем; потом, бравшись вместе, испустили общий военный крик и устремились на врага из-за стен. Дружно подкрепленные своими, они бились целый день и произвели в рядах неприятельских беспримерное опустошение. Их могли отделить от врагов одни волны прилива, шумно бежавшие с моря на берег и уносившие на себе в пучину груды тел, бледных, страшно искаженных могучими ударами.
Принужденные вернуться в крепость, бретоны предались своей обычной невоздержанности: всю ночь пропировали они и осушили много бочек крепкого меда. Хотя на другой день они продолжали мужественно биться с врагами и вновь отразили их от стен, но уж они бились не так хорошо, как прежде, потому что в голове их бродил хмель, ослабляющий руки. На следующее утро битва возобновилась с таким ожесточением, что сам Анёрен не вытерпел и, бросив на землю арфу, в порыве своего бешеного восторга с мечом в руке устремился в самую середину сечи и завоевал бретонам победу, но попал в плен и, скованный по рукам и ногам, был брошен в темную и сырую яму. Долго бы пришлось ему пробыть в этом ужасном положении, если бы Кенев, сын Ливарха, не заметил его отсутствия и не заплатил дорогого выкупа «золотом, серебром и сталью» за его жизнь и свободу.
Поражение неприятеля в этот день было решительное: он отступил, оставив тела своих убитых в добычу волкам и хищным птицам. Громко, весело выли над ними волки, а бретоны шумно пировали в Кальтраезе, празднуя успех свой невоздержанным употреблением крепкого меда.
Между тем к неприятелю, уже отступавшему, пришло подкрепление. Он вернулся под стены Кальтраеза, ворвался в него и окружил залу пиршества. Однако же барды спасли на этот раз бретонов: они запретили пить мед и запели военные песни — осажденные взялись за оружие и отражали нападение после долгой и трудной сечи.
Но на седьмой день, когда бретоны все продолжали пировать по-прежнему и до того много выпили меда, что даже не слыхали, как неприятель вторично ворвался в крепость, сами барды не смогли спасти их. Напрасно взывали они к ним и умоляли взяться за оружие, кричали, что неприятель приближается к дверям. Опьяневшие воины продолжали сидеть за своими столами, не думая браться за оружие».
«Овен, Мезенок и несколько храбрых вождей долго защищали вход в залу, — говорит бард, — но тысячи шли за тысячами против них, и зала наполнилась кровью бретонских воинов, вместе с которыми погибла и последняя надежда на спасение отечества от врагов и на свободу».
Так заключает Анёрен свою песню об осаде Кальтраеза, о гибели цвета бретонских воинов. Из 363 вождей спаслось всего трое, успевших очистить себе дорогу мечом, да он, спасенный своей арфой и сединами. Но жизнь была в тягость старому барду, пережившему своих близких и принужденному уступить чужеземцам родной очаг и поле. Он взял свою арфу и явился ко двору одного бретонского князя, не участвовавшего в общем союзе и без боя покорившегося врагам отчизны. Смело и грозно упрекал он его при всех придворных в трусости и низости. Его насмешки были колки и резки. В ярости своей изменник приказал схватить барда и бросить в темницу... Никто не решался исполнить его приказание, а бард все продолжал петь. Тогда один из княжеских воинов, Эдин, желая угодить своему повелителю, бросился на старого певца и ударом боевого топора разрубил ему голову. Все присутствующие онемели от ужаса. Тяжкое пало проклятие современников на убийцу и его оружие...
Замечательно, что Анёрен был первым бардом, который поднял меч рукой, бряцавшей на мирной и мудрой арфе. Судьба словно хотела наказать его за такое отступление от высокого назначения барда-певца, и в лице его, в первый и последний раз во всей истории кельтов, бард пал жертвой убийцы, не побоявшегося поднять на него оружие.
По бретонскому обычаю, все молодые воспитанники находились при дворах под покровительством наследника престола, почему и помещались на его половине вместе с бардом, занимавшимся их воспитанием. Герент, старший сын Эрбина, полюбил от души молодого Ливарха, почти не расставался с ним и решился даже взять его с собой в поход против Порта, начальника саксонцев, высадившихся на берегу Корнваллиса. Ливарх был тогда еще очень молод: ему было лет 16. Страшное кровопролитие, которое приходилось ему видеть в первый раз в жизни, груды трупов, блеск и стук оружия, испуганные кони, покрытые белой пеной и бешено скакавшие по телам павших воинов, — одним словом, вся многосторонняя и ужасная картина битвы произвела на юношу такое сильное впечатление, что он превосходно воспел победу бретонов при Лонгборте и смерть своего молодого покровителя Герента, который, по его выражению, пал в битве, но своим падением раздавил саксов.
По смерти Герента Ливарх поступил в касту бардов и хоть наследовал отцу своему в правление Аргоедом, однако же большую часть года проводил при дворе своего родственника, знаменитого Уриена. Это время, по его словам, было счастливейшим временем его молодости. Иноземцы боялись его оружия, подданные любили, женщины хвалили его красоту, храбрые удивлялись его силе и ловкости, все заслушивались его песнями.
«Пиры да песни — в них протекала вся моя молодость», — говорил про себя бард. Смерть Уриена была тяжким ударом Ливархову счастью. «Бедствие Уриена — мое бедствие, — говорил бард в своей элегии на смерть этого доблестного князя. — Хвалебные песни будут теперь редко слышны из уст моих, потому что Уриена нет более!»
Междоусобные войны и неудержимый напор чужеземцев-завоевателей лишили вскоре Ливарха его владений. Он вместе со своим семейством должен был покинуть их и пришел ко двору Кенделана, одного из валлийских королей, просить себе убежища. Кенделан принял Ливарха чрезвычайно радушно, уважая его высокое звание, преклонные годы и несчастье. Старый бард с удовольствием вспоминает об этом ласковом приеме и почестях, оказанных ему добрым королем. Но бедствия преследовали Ливарха: и под новым кровом не дали они ему покоя. Кенделан вступил в союз с двумя другими королями, и в 577 году в сражении с саксами войско его было разбито наголову, а он сам пал в битве, вместе с сыновьями Ливарха. В одну ночь несчастный старец лишился и семьи, и крова. В своих песнях он превосходно описывает эту бедственную ночь, когда, склоняясь над гробом Кенделана, он оплакивает его смерть в той самой зале, где еще незадолго слышны были звуки его арфы и шум пиров, а теперь царствовали мрак и мертвая тишина, которая нарушалась только криком горного орла, жаждавшего упиться недавно пролитой кровью.
С той поры несчастный старец поселился в небольшом шалаше, на берегу реки Ди, невдалеке от аббатства Ланворского, где и теперь еще одна глухая и уединенная местность называется его именем. Грустно было там жить осиротевшему старику; только недуг, скорбь да бессонница разделяли с ним его тяжкую долю.
«Я стар, я одинок, я сгорблен, я хил теперь. Поддерживай меня, костыль мой! Ведь недаром же зовут тебя верным другом слабеющего тела!» — восклицает бард в одной из песен своих. Чаще всего вспоминал он в своем уединении о храбрых сыновьях, павших в битве, и в горести своей не раз восклицал, сидя на берегу реки и смотря на беспокойные, шумные волны: «Ударяй в берег, волна! Покрывай собой прибрежный песок! Горе тому, кто слишком стар, чтобы отомстить за смерть своих сыновей. Горе тому, кто теряет вас, дети!»
Не раз предавался он вполне своему отчаянию и тщетно умолял смерть прийти к нему скорее, укорял ее в измене, проклинал ее медлительность; не раз в своем пламенном поэтическом вдохновении призывал он небо, землю и тени погибших героев отомстить врагам отчизны за смерть его детей, за его бедствия и горько оплакивал свое бессилие..
Часто случалось, что в эти-то горькие минуты за рекой раздавался с колокольни аббатства Ланворского мерный и торжественный благовест, призывавший иноков к молитве; часто даже легкий ветерок доносил до ушей старого барда согласное и стройное пение их, долетавшее из окон церкви... Тогда мысли его как будто изменились; на мгновенье ему казалось, что он не один, что и в трепетных слабо дребезжавших звуках колокола, и в отрывке священного пения, долетавшем до него, слышалось что-то знакомое, почти родное и сладостно примирительное.
Иноки ланворские изредка посещали Ливарха, предлагая ему свою помощь, желая приютить бесприютного под кровом святой обители; но он каждый раз отвечал на все их увещевания: «Я стар, мне ничего вашего не надо; мне нужна одна могила».
Под конец, однако же, мысль о Боге, как единственной опоре и надежде всякого страждущего, всякого удрученного и бедствиями, и годами, привлекла все внимание Ливарха; только в ней привык он видеть облегчение своей горести, в последней своей песне бард говорил: «Мои слезы и вздохи ясно доказывают мне, что Бог не дает счастья горделивым, что все на свете обманчиво, кроме милосердия Божия, только в нем нельзя обмануться!» Предание утверждает, что незадолго до своей смерти он обратился к Богу, поступил в число ланворских иноков и был погребен в их обители. И действительно, имя его было недавно открыто и прочтено на стене трапезной этого древнего аббатства.
* * *
Прошло много веков. От могущественного племени кельтов остались незначительные обломки в разных углах Европы. Исчезли барды и их законы, но слава их продолжала жить в народе, и пример их не раз одушевлял многих любовью к истине и справедливости.